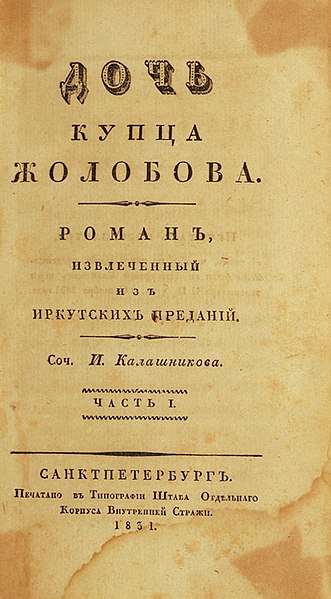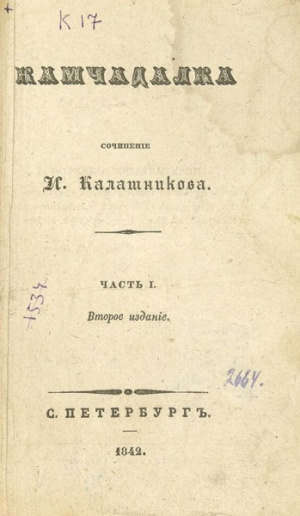Климат как ключевая составляющая сибирского ландшафта в эпоху романтизма
Содержание
[убрать]Трансформация сибирского ландшафта в эпоху романтизма
В эпоху романтизма принципы символизации сибирского ландшафта и ключевой его составляющей, климата, существенно изменились. Сначала туземцы под влиянием еще сентименталистской доктрины превратились из дикарей в невинных «детей природы» [1, с.96], а затем в рамках националистического проекта романтиков сама Сибирь неуклонно начала трансформироваться из экзотизированного колониального «царства» в резервуар исконно русских нравов и обычаев, противостоящих химерической цивилизации Европейской России, и, прежде всего, ее столице. Ксенофонт Полевой в предисловии к книге своей сестры Е.А. Авдеевой-Полевой емко и точно выразил эту общую тенденцию: Для не знающих хорошо Сибирского быта замечу, что, может быть, нигде, кроме Северной России, не сохранилась так старая Русь (выделение Кс. Полевого. – К.А.), как в Сибири. Не удивительно: первыми переселенцами в нее были жители северных областей России, куда не достигала ни Татарская плеть, ни Польская спесь, ни Французский век знаменитого Людовика XIV [2, с.5].
Фокус внимания авторов декабристского поколения перенесся с аборигена, наиболее ясно олицетворявшего своей неуклюжей персоной Другого, на колониста-старожила, осмысляющегося в этот период как носитель исконно русских качеств, многие из которых оказались утрачены в самой России. Именно с этой точки зрения, разнообразя ее сближением русского Востока и Северо-Американских Штатов, смотрели на Сибирь декабристы [3, P. 775 et passim]. Обязательный параллелизм каторжных мук и царства холода был зарезервирован ими для меняющейся с большим трудом, консервативной в своей основе образной системы декабристской поэзии [4, с.27-35], а вот реальные наблюдения зазвучали в ряде случаев уже совсем по-иному.
Местность Читы и климат были бесподобны. Растительность необыкновенная. Все, что произрастало там, достигало изумительных размеров. Воздух был так благотворен, и в особенности для меня, что никогда и нигде я не наслаждался таким здоровьем. Будучи <…> слабого, тщедушного сложения, я, казалось, с каждым днем приобретал новые силы и наконец до такой степени укрепился, что стал почти другим человеком. Вообще все мы в Чите очень поздоровели и, приехавши туда изнуренные крепостным заключением и нравственными испытаниями, вскоре избавились от всех последствий перенесенных нами страданий. В Восточной Сибири, и особенно за Байкалом, природа так великолепна, так изумительно красива, так богата флорою и приятными для глаза ландшафтами, что, бывало, невольно, с восторженным удивлением, простоишь несколько времени, глядя на окружающие предметы и окрестности, – писал Н.В. Басаргин [5, с.30].
Разумеется, до 1826 года позиция была другой: «Сибирь в представлении русского образованного общества начала XIX века была страшным и жутким понятием, “последний круг Дантова ада”, “где люди и холод, подобно Геркулесовым колоннам, положили предел человеку и говорят: “Nec plus ultra”», – так писал декабрист С. Кривцов. О Сибири в то время «говорили с ужасом», вспоминает другой декабрист, Басаргин, и когда он узнал, что остальная жизнь его должна будет пройти в этом «отдаленном и мрачном краю», то он уже «не считал себя жильцом этого мира» [5, с.41]. «Такие примеры и свидетельства – не единичны», – справедливо отмечал М.К. Азадовский [6, с.28-29].
Эволюция отношения к Сибири: смена акцентов
И, тем не менее, перед человеком новой генерации отдаленная окраина предстала в ином свете: прежде всего как страна, на территории которой отсутствует крепостное право. Такое воззрение на Сибирь выдержало проверку даже тем суровым обстоятельством, что множество его носителей было отправлено за Урал под конвоем. Эволюция отношения к Сибири закономерно повлекла за собой смену акцентов в дихотомии резко континентального сибирского климата, состоящего из быстрых переходов от мороза к жаре и обратно. Говоря языком естественных наук, внимание стало сосредоточиваться не на привычной изотерме января, а на изотерме июля – Сибирь в ряде текстов литературы первой трети XIX века стала заметно «теплеть».
Данная тенденция получила неожиданную поддержку: в 1830-е годы на языке изящной словесности (повести, романа, исторического сочинения) вдруг заговорил сам сибиряк. Фигуры Н.А. Полевого, П.А. Словцова, И.Т. Калашникова, Н.С. Щукина заняли свое место – пусть не всегда в сердцевине литературного процесса, но, во всяком случае, не на самой дальней его окраине. Появление текстов писателей, местных уроженцев, было в череде символико-идеологических конструкций, транслируемых из «центра» на восточную окраину империи, явлением предсказуемым: как только единственной метафорой аутентичной Сибири перестал быть «инородец», и участником процесса «изобретения» восточной колонии сделался сибиряк, выяснилось, что дистанция, отделяющая его от самой ситуации литературного творчества, достаточно коротка и потому легко преодолима.
В то время как абориген был молчаливым объектом литературного воспроизведения, русский колонист исподволь копил ресурсы для собственного вступления на литературную сцену [см.7, с.3-8]. Это и произошло сначала в литературе «местного колорита» 1830-х годов, а затем и в словесности областнического направления во второй половине XIX в. Важным слагаемым концептуального образа Сибири в «локальных» текстах стала дискуссия о климате. Роман И.Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова» (1831) открывается примечательным рассуждением:
Непосвященные в таинства отечественной географии часто спрашивают: неужели в Сибири бывает также теплое лето? Бывает, и теплое время начинается гораздо ранее, нежели в здешней столице, где ладожский лед и северные ветры нагоняют стужу и тоску среди мая месяца [8, с.18].
Далее возникает характерная антитеза столичного воззрения на колониального Другого и местного взгляда на самого себя.
Да знаете ли, как там (в Петербурге. – К.А.) о здешнем месте думают? – А как? – Да так, что здесь-де и снег-то никогда не стаивает, да и люди-то одни лишь каторжные 82, с.128].
Направленность этих пассажей троякая. Сибирь у Калашникова – не просто место с «хорошим» климатом, оно именно «теплое», а значит полемически противопоставленное архаичной образной конструкции «Сибирь/холод/ссылка». С другой стороны, по признаку тепла Зауралье оказывается противовесом «холодной» имперской столице. Кроме того, необходимо иметь в виду еще и эстетический аспект этих мотивов: петербургский чиновник Калашников, иркутянин по рождению, прекрасно понимал, что удивить столичного читателя, основного потребителя его литературной продукции, можно, резко сменив перспективу оценки Сибири: например, из привычно «холодной» превратить ее если не в «теплое», то, во всяком случае, в обыденное с климатической точки зрения пространство. Эффект неожиданности в результате этого, как, скорее всего, полагал Калашников, должен был быть еще более сильным.
Вместе с тем, в целом, несмотря на явное движение вперед, Калашников остался носителем еще просветительского представления о цивилизующем воздействии европеизированного центра на дикую окраину. Символическое «смягчение» ее климата означало по-человечески понятное в случае с коренным иркутянином сокращение остраняющей дистанции по отношению к его малой родине, понижение «градуса» мифологизации. Однако говорить о становлении новой территориальной идентичности романы Калашникова не позволяют, даже гипотетически. Все в них происходящее укладывается в рамки, как правило, одной сюжетной схемы: бюрократическое самовластье прекращается после чудесного и гармонизирующего всю местную жизнь вторжения высшего столичного сановника.
Заключение
Таким образом, Сибирь знаково как бы «выравнивается» с остальной Россией. На сетования одного из персонажей романа «Камчадалка» (1832), что его глаза «не увидят уже благоденствия… родины», ревизор, агент верховной власти, отвечает: «Не жалейте: наше отечество – вся Россия, и благоденствие самой отдаленнейшей от Камчатки области должно вас столько же занимать, как и родины!» [7, с.436]. В итоге Сибирь включается в единое символическое пространство империи, противопоставление ее климата и ландшафта общерусским реалиям дезавуируется (по крайней мере, в случае с относительно освоенной и известной Иркутской губернией), а сам Калашников демонстрирует две бесконфликтно сочетающиеся в его сознании идентичности, локальную и столичную, предоставляя своему читателю в сбалансированных пропорциях как почти реалистическое краеведение, так и романтическую экзотику.
К.В. Анисимов
Литература
- Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.
- Авдеева-Полевая Е.А. Записки и замечания о Сибири. М., 1837.
- Bassin M. Expansion and Colonialism on the Eastern Frontier: Views of Siberia and the Far East in Pre-Petrine Russia // Journal of Historical Geography. 1988. Vol. 14. № 1.
- Курдина Н.Н. У истоков поэтики сибирского пейзажа в русском романтизме // Литература Сибири. История и современность. Новосибирск, 1984. С. 19–41; Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
- Записки декабриста Н.В. Басаргина // Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в Сибири. Иркутск, 1977.
- Азадовский М.К. Странички краеведческой деятельности декабристов в Сибири // В сердцах отечества сынов. Декабристы в Сибири. Иркутск, 1975.
- Лихачев Д.С. Археографическое открытие Сибири // Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами. 3-е изд., доп. и перераб. Новосибирск, 2005. С. 3–8.
- Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова. Романы, повесть. Иркутск, 1985.