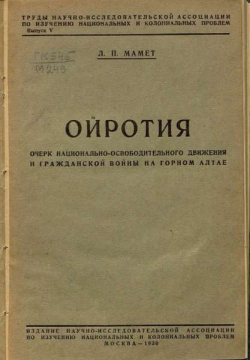Об «идеологической» и «художественной» стратегиях репрезентации Горного Алтая в русской литературе 1920-х гг.
Содержание
- 1 Литературная жизнь в Ойротии: конфликт «своё» / «чужое»
- 2 Горный Алтай в творчестве П.Я. Гордиенко: цикл «Ойротия»
- 3 Ойротия в «Очерке национально-освободительного движения и гражданской войны на Горном Алтае» Л.П. Мамета
- 4 Место газеты «Читатель и писатель» в ойротском литературном поле
- 5 Партийная установка в книге П.Я. Гордиенко: критика предшественников
- 6 Заключение
- 7 Список литературы
Литературная жизнь в Ойротии: конфликт «своё» / «чужое»
Ойротия – разговорное название Ойротской (Ойратской) автономной области (1922-1948), административно-территориальной единицы РСФСР, расположенной на юге Сибири, в Горном Алтае, в местах проживания алтайцев и алтайских субэтносов; ныне – Республика Алтай. Первая советская книга, художественным пространством которой становится Горный Алтай – «Язычники» Павла Низового [1], выходит в год создания автономии, символически знаменуя начало процесса вхождения Ойротии в качестве полноправного участника в литературную жизнь страны. Когда в 1920–1930-е гг. в регионе начинает развиваться литературная жизнь, дикая экзотика Горного Алтая, на территорию которого переносятся все основные социально-преобразовательные практики советского проекта, особенно привлекает сюда столичных литераторов. Последнее обстоятельство закономерно вызвало столкновение «своей» и «чужой», «столичной» и «периферийной» позиций в литературной дискуссии, посвященной способам воображения этой «восточной» национальной окраины советского государства. Естественно, что указанный конфликт не мог быть открыто проговорен в ключе областников, порицавших в начале XX в. ссыльных деятелей леворадикальных партий, чья идеологическая позиция диагностировалась последователями Потанина и Ядринцева как централистская. Участники новой – послереволюционной – полемики преимущественно оперировали «словарем» советского дискурса, под наслоениями которого, тем не менее, отчетливо просматривается старая историко-культурная коллизия, которая и стала в рамках данной статьи главным объектом реконструкции.
Горный Алтай в творчестве П.Я. Гордиенко: цикл «Ойротия»
Первым примером столкновения «локалистской» и «централистской» идеологий в произведениях о Горном Алтае стала книга партийного функционера П.Я. Гордиенко «Ойротия» [2]. В литературоведческом труде её впервые упомянул исследователь сибирской литературы Г.В. Кондаков (в свое время на выход книги не отреагировали «Сибирские огни», не оставлявшие без внимания все более-менее заметные литературные явления в крае, в составе которого была Ойротия). Он отметил, что в «Ойротии» «анализируются русско-алтайские литературные связи, произведения, посвященные алтайской теме» [3. С. 23]. Подобная характеристика содержания книги является большой натяжкой, но, учитывая приоритет идеологической составляющей для автора высказывания, с Кондаковым нельзя не согласиться. Позднее книгу Гордиенко как цикл путевых очерков рассмотрела Л.Г. Чащина, [4. С. 50–58]. Названные исследователи привели перечень авторов, с которыми полемизирует писатель-идеолог в предисловии к «Ойротии», но не рассматривали книги из этого перечня и не обращались к значительному числу упоминаемых в основном тексте «Ойротии» произведений, по которым можно реконструировать особенности художественно-идеологического воображения Горного Алтая 20-х – 30-х годов прошлого столетия – в годы, названные позднее периодом «затишья» в литературной жизни Алтая в целом [5. С. 11].
Вывод К.В. Анисимова, что для русской литературной традиции в Сибири характерно ощущение того, что на каждом новом этапе развития «региональная словесность вновь только нарождается, а опыт, накопленный годами ранее, – не в счет» [6. С. 289] привел к определению цели нашей работы. Таковая состоит в выявлении соотношения идеологической и художественной составляющих в процессе происходившего в раннесоветскую эпоху нового литературного открытия Горного Алтая. Первое открытие можно отнести к XVIII в. Хронологически оно растягивается до 1864 г., когда за территорией по Чугучакскому договору об определении границы между Россией и Китаем закрепляется статус российской. В текстах того времени преобладают географические образы «дикого» Алтая. Второе открытие края связано с деятельностью сибирских областников, совместивших со сказочной экзотикой места этно-социальную проблематику «русского Алтая» [7]). В качестве материала мы привлекли споры Гордиенко со столичными писателями Львом Маметом и Павлом Низовым, в ходе которых конкретизировался базовый для эпохи формирования алтайской региональной литературы образа места.
Имя Петра Яковлевича Гордиенко не вошло в сибирские исторические анналы, сведений об этом человеке нет ни в «Сибирской советской энциклопедии», ни в созданной на основе современных исторических воззрений региональной энциклопедии [8]. Он был украинцем из-под Екатеринослава (Днепропетровска) и так и остался «чужим» для местного общества. Сведения о типичной для человека его статуса судьбе, окончившейся гибелью в маховике репрессий и посмертной реабилитацией, содержатся лишь в издании, подготовленном горно-алтайскими архивистами [9. С. 31–32]. Кроме того, отдельные факты его биографии можно найти в ряде сетевых ресурсов [9]. Первым достоверным печатным источником сведений о Гордиенко можно считать предисловие к журнальной публикации небольшой подборки его стихов [11], осуществленной сыном этого интересного советского деятеля Юрием Петровичем Гордиенко (1922-1993), профессиональным поэтом, отметившим разносторонность интересов отца (увлечение живописью, фотографией, «писательским трудом»), «искренность», «непосредственность», «наивность» его «скромного литературного наследства». В автобиографической поэме «Там, за большим перевалом…(Алтайские хроники)» Ю.П. Гордиенко создал идеализированный образ отца, непреклонного борца за советскую власть, а также образы его соратников и идеологических противников [12. С. 150–201].
В первый раз в Горный Алтай Петр Гордиенко, имевший значительный опыт большевистского революционного подполья и практической работы в советских органах (он был первым председателем Курганского Совета депутатов), приезжает в 1920 г. из Бийска (куда незадолго до того был командирован из Тобольска – там он возглавлял Военно-Революционный Комитет) поправить здоровье, подорванное тюрьмой и участием в партизанском движении, т.к. к тому времени этот уголок Сибири был уже известен своими курортными местами [13. С. 395–426]. В августе 1921 г. он возглавил чрезвычайную тройку по борьбе с бандитизмом в Горном Алтае. Сюжет его «Ойротии» составляет описание одного из карательных рейдов этой тройки и не обходится без характерных деталей исторической эпохи: «Члены трибунала не копались в статьях законов. Их кодексом была революционная совесть. Мерой, определяющей виновность подсудимого, являлась степень его участия в классовой борьбе. Решения сводились к короткой записи: “Кулак, бай, офицер, бандит, взят с оружием в руках – расстрелять” <…> “бедняк, бандит, доброволец, принимая во внимание политическую несознательность, осудить условно…” Эти решения оказывали глубокое воздействие на остальную часть деревни. В них чувствовалась суровая, но справедливая в классовом отношении рука пролетарской диктатуры» [2. С. 107].
По меркам Сибири начала ХХ века Гордиенко был достаточно образован: он закончил Омскую Центральную фельдшерскую школу. Владение словом и широта кругозора заметно выделяли его из среды руководителей области той поры. В местной периодике он публиковал вполне соответствующие духу времени стихи и речи. Образцом его революционно-романтической лирики может служить стихотворение «Красные маки» из пилотного номера первой в автономной области газеты «Ойротский край», выпуск которой был приурочен к пятой годовщине Октября:
В хаосе мрака и липкой грязи Рождались маки, горя в крови, Где часто люди порыв фантазий Бросали солнцу из недр земли. Но крепко корни гнилых растений Сидели в почве, скрывая свет, И гибли люди, судьбы стремлений В кровавых маках ища ответ… [14].
Образная система этого произведения соответствует набору метафорических антиномий постреволюционной лирики. Флористический код текста говорит сам за себя: традиционную революционную красную гвоздику, символизирующую верность идеалам и пролитой во имя общего дела крови, Гордиенко заменяет маком с его зловещими смыслами отрубленной головы и ухода от действительности в сон/бред/грезу [15]. В истории гражданской войны в Горном Алтае был страшный эпизод: разгромив отряд лидера крестьянского повстанческого движения А.П. Кайгородова в апреле 1922 г., его отрубленную голову красноармейцы предъявляли на митингах как доказательство победы над бандитизмом [16], не думая о том, что тем самым превращают его в мученика, ибо в этом действе слились и христианские, и языческие мотивы [17]. Об интересе Гордиенко к книге и писателям свидетельствует этнограф-алтаевед Л.П. Потапов [18. С. 110]. Читательский кругозор партийного руководителя демонстрирует предисловие к «Ойротии», где Гордиенко делает обзор книг, выпущенных столичными писателями, «побывавшими в Ойротии и с высоты птичьего полета взглянувшими на экзотику далекой национальной окраины. Им не удалось сквозь дымку аполитичности разглядеть живые потоки бурлящей Советской Ойротии. Они видели природу Алтая, быт туземцев, дичь и бескультурье отсталого во всех отношениях небольшого уголка Страны советов, строящей социализм» [2. С. 3].
Связанный с Горным Алтаем на протяжении более чем десяти лет (с 1920-го по 1932 г., с перерывами), Гордиенко-писатель в книге об Ойротии стремится занять позицию «своего», противопоставляя её позиции «чужих» – в основном столичных литераторов; «аполитичный» природоописательный и этнографический ракурс их произведений – своей идеологической трактовке «острейших процессов классовой и национальной борьбы, проявлений великодержавного шовинизма и местного национализма» [2. С. 3].
Название книги Гордиенко и акцентуация идеологической составляющей в её содержании, на наш взгляд, были спровоцированы полемикой, развернувшейся в центральной периодике вокруг одноименной книги Л.П. Мамета, изданной Научно-исследовательской ассоциацией по изучению национальных и колониальных проблем в 1930 г. Гордиенко, закончивший в 1931 г. курсы областных и краевых партработников при ЦК ВКП (б), прекрасно понимал, как и о чем следует писать, чтобы самому не оказаться на острие критики и не признаваться потом публично в допущенных ошибках. Поэтому «чужой», уже заклейменной в центральной периодике «Ойротии» Мамета он противопоставил «свою» (по злой иронии судьбы оба автора в 1938 г. были арестованы: Гордиенко расстреляли, а Мамета приговорили к 8 годам лагерей). Созданные на одном фактографическом, историческом и этнографическом материале, относящемся к крошечной, занимающей 0,5 % территории Советского Союза автономии, в равной степени отражающие процессы коренизации (ойротизации) восточной окраины, они символизируют смену политического курса: «В 1929–1930 гг. советское руководство начало новую кампанию, призванную создать “братство народов”» [19. С. 371]. Возникает ситуация, типичная для «империи положительной деятельности», как охарактеризовал советскую государственность 1920-х гг. Терри Мартин: взгляд на Ойротию извне фокусируется на национальной идентичности, а внутренний взгляд – на интернациональной интеграции в общесоюзное пространство (конкретным примером последнего является мультиэтнический состав руководства автономии: алтаец (меркит) И.С. Алагызов, латыш Л.А. Папардэ, украинец П.Я. Гордиенко).
Ойротия в «Очерке национально-освободительного движения и гражданской войны на Горном Алтае» Л.П. Мамета
Лев Пинхасович (Павлович) Мамет, профессор Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. Сталина (КУТВ), был признанным специалистом по национальному вопросу, автором учебных пособий и программ по дисциплинам идеологического цикла. Весной 1928 г. он прибыл в восточную Ойротскую автономную область с группой студентов-практикантов; тогда же и была задумана книга. «Советское правительство по традиции разделило население страны на две основные категории – восточные и западные национальности, причем их противопоставление друг другу учитывало не столько географическое положение народов, сколько уровень их развития. Привилегии, предоставляемые той или иной нации, объяснялись двумя причинами. Во-первых, индигенностью, то есть местным происхождением (“коренностью”), чем могли воспользоваться все нерусские народы, а во-вторых, “культурной отсталостью”, распространявшейся только на те народы, которые были признаны отстающими в экономическом и культурном развитии» [19. С. 40–41].
Деятельность КУТВ была регламентирована патроном лично, о чем свидетельствует выступление Сталина на собрании студентов КУТВ 18 мая 1925 г. Эту речь следует считать основой идеологической составляющей двух «Ойротий». Сталин поставил в ней перед «активными работниками советского Востока» задачи, не выходившие за рамки официально порицаемого колониального управления окраинными территориями. Подчиняясь партийной дисциплине, Мамет как преподаватель идеологических дисциплин и Гордиенко как практик прекрасно понимали, что будет с теми руководителями, которые не создадут «образцовых республик советского Востока» – ибо «образцовая республика есть такая республика, которая выполняет все эти задачи честно и добросовестно» [20. С. 136]. Оба они также прекрасно знали о неудавшемся опыте создания государственности в Горном Алтае революционных лет – Алтайской Горной думе и сходились на мысли, что немногочисленная национальная интеллигенция, воплощавшая эту идею, находилась под влиянием сибирских областников.
Мамет, первоначально собиравшийся дать лишь исторический очерк гражданской войны в Горном Алтае, на месте столкнулся с проблемой формирования национальной идентичности у ойротов в процессе утверждения бурханизма и решил «на примере маленькой, заброшенной в алтайские горы Ойротии» предпринять «попытку конкретного анализа истории угнетенной ранее народности» [21. С. 9]. Цель его исследования – подтверждение правильности национальной политики СССР, конспективно изложенной им во «Введении». Мамет отметил, что первые лица области, в том числе и Гордиенко, информацией по интересовавшим его вопросам владели хорошо (уточним, что Гордиенко в 1928 г. в области не было, он возвращается в мае 1930 г. [22]; Гордиенко же в своей книге факт личного знакомства с Маметом не афиширует), все они помогали в сборе материала, который позволял столичному специалисту раскрыть исторические и этнические корни процессов, происходивших в Горном Алтае с февраля 1917 г. по июнь 1922 г.
Подлинный трагизм этих событий Мамет передает подборкой документов из архива Ойротского Обкома ВКП (б) 1921–1922 гг., показывающей, как «красные» и «белые» под лозунгом блага народа с одинаковым цинизмом запугивали, арестовывали, пытали, казнили окончательно сбитое с толку туземное население (к инородцам относили в то время и жителей старообрядческой Уймонской волости, заселенной русскими). Попытку найти приемлемую в послереволюционных условиях форму регионального самоуправления, развивающую идеи сибирского областничества – создание Алтайской Горной Думы (Каракорум-Алтайской Окружной управы), возглавляемой соратником Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина и их другом художником Г.И. Гуркиным, Мамет раскрывает на фактическом материале, но он не дает ей оценок, соответствующих «злобе дня» (т.е. не выводит на первый план классовый антагонизм и среди алтайцев, и в отношениях алтайцев и русских). За это книга, её автор, издатели, первые рецензенты и подвергаются жесткой партийной критике. Кроме того, отстаивая национальный нарратив, Мамет не учел новейших тенденций в национальной политике, долженствующих привести к «дружбе народов».
Критика очерка Л.П. Мамета
Анализируя труд Мамета в контексте историографии 1920–1930 гг., Н.А. Майдурова пришла к выводу, что, прежде всего, критиковались выводы Мамета о том, что в Горном Алтае вокруг идеи национального самоопределения сплотились все слои населения, что в 1917 г. здесь классовые противоречия еще не играли большой роли, что гражданская война в этом регионе была войной межнациональной: «Все остальные исследователи считали, что Алтайская горная дума выражала интересы буржуазии и обуржуазившегося байства, а её деятельность противоречила интересам простого народа и не поддерживалась им» [23. С. 7]. Примечательно, что подобной точки зрения придерживалось руководство автономии и после официальной реабилитации Г.И. Чорос-Гуркина [24].
Создатель современной горно-алтайской популяризаторской книжной серии «Историческая библиотека «Ак Чечек» В. Кыдыев в послесловии к книге Мамета, переизданной им как документ «объективной истории алтайцев» второй половины XIX – первой четверти XX вв., писал, что автора «обвинили в искажении русско-алтайских отношений, а так же в ревизии генеральной линии партии большевиков», в «защите теории родового строя» [21], [22]. Кыдыев включил в книгу рецензии и письма в редакции, которые дополняют наши представления о литературном быте той поры, о партийной критике и самокритике. В поддержку Мамета в этой подборке можно считать мнение рецензента журнала «Историк-марксист» А.В. Шестакова и критико-библиографический разбор А. Оширова, напечатанный в ежемесячнике Коммунистической академии, главного центра марксистско-ленинской науки того периода, журнале «Революция и национальности» (1930, № 3). Заметим, что это издание широко пропагандировалось в Ойротии [25]. Оценка первого такова: «Попытку Л.П. Мамета на примере маленькой, заброшенной в алтайские горы Ойротии дать конкретный анализ национально-освободительного движения в эпоху 1905 г. и в эпоху гражданской войны <…> в известной мере можно считать удавшейся» [21. С. 169]. Оценка второго: «Правильно в основном характеризуя мелкобуржуазную, националистическую политику руководителей нацучреждений алтайцев и правильно отмечая ошибки уездных учреждений, в частности, бийских, которые подогревали национальный антагонизм, автор очень бегло и явно недостаточно остановился на политике националистов, руководивших Алтайской горной думой. Материалы о партизанском движении исключительно ценны» [21. С. 174]. Выводы Мамета рецензент дипломатично назвал «неосторожными», ибо «не всякое русское влияние можно назвать революционным: влияние русского пролетариата – да, влияние русской буржуазии – нет. Это, конечно, для марксиста азбучная истина, и я не собираюсь упрекать автора в азбучной неграмотности. Остановился я на этой формулировке по той причине, что она открывает всякие великодержавные безобразия…» [21. С. 175] – в этом пассаже четко слышны идеологические установки указанной речи Сталина. Позицию же рецензента М. Тайшина (популярного на тот момент партийного пропагандиста, чей учебник политграмоты выдержал не одно переиздание [26]) определяет название его статьи «Против извращения национальной политики партии», напечатанной в «Правде», 6 апреля 1931 г. Тайшин обвинил Мамета в целом ряде политических прегрешений: в рассмотрении национального вопроса как самостоятельной проблемы, находящейся вне проблематики классовой борьбы; в том, что он стал рупором буржуазно-националистических идей; исказил картину партизанского движения в Сибири; обратился к клеветническим источникам и т.п. Вывод рецензента: «целый ряд положений, выдвинутых в книге, ничего общего с марксизмом не имеет» [21. С. 177]. К критике поспешило присоединиться бюро редакции журнала «Революция и национальности», усмотревшее на этот раз в книге Мамета «пасквиль на нашу национальную политику» [21. С. 178].
Концепция этнотерриториальной идентичности Л.П. Мамета
Чтобы не подводить коллег, точку в дискуссии о первой советской книге, посвященной Ойротии, честно поставил сам Л.П. Мамет. Он обратился с саморазоблачительным письмом в «Правду» (опубликовано 24 апреля 1931 г., № 113, продублировано в «Революционном Востоке», 1931, № 12). Он признал, помимо всего прочего, что допустил три «грубейшие» ошибки:
1) «узкий “краеведческий” подход привел меня в целом ряде случаев к искажению политической обстановки, неправильным формулировкам и, как результат, к ошибочным политическим выводам» [21. С. 179]; 2) «допустил перегиб в критике всего русского, что привело меня <…> к смазыванию классовых противоречий и классовой борьбы и подмене её на определенном этапе национальной» [21. С. 180]; 3) «не дал достаточного отпора местному национализму и даже допустил формулировку “о русском влиянии”, которая объективно может служить к оправданию как великодержавного, так и местного национализма» [21. С. 180].
В форме самооговора автор, по существу, привел здесь основные слагаемые этнотерриториальной идентичности. Так, знаком культурно-идеологической ситуации рассматриваемого времени становится закавыченное слово «краеведческий» в первом пункте признания. Достаточно cказать, что в 1929 г. по надуманному обвинению был арестован Н.П. Анциферов, в 1930 г. – И.М. Гревс, уже «многие краеведы были репрессированы, добровольные краеведческие общества заменены сугубо бюрократическими структурами. Вся краеведческая литература, выпущенная до 1930 г., подлежала тщательному пересмотру…» [27. С. 541]. Книга Л.П. Мамета оказалась для идеологической машины очень кстати: в марте 1930 г. на волне подготовки к XVI съезду ВКП (б) ойротская областная парторганизация была обвинена в грубых политических ошибках, допущенных в коллективизации, раскулачивании и национальном вопросе, секретарь обкома партии и редактор «Ойротского края» исключены из партии, все местные силы брошены на «исправление ошибок» [28]. Гордиенко, работавшего тогда в Новосибирске, вновь посылают в Горный Алтай. В своих докладах и статьях, опубликованных в то время в «Ойротском крае» (издании, с 1 октября 1930 г. показательно переименованном в «Красную Ойротию»), он то ставит «боевые задачи», то требует проверить «боеспособность парторганизаций», «беспощадно» громит правых оппортунистов, воюет с шовинистами и «великодержавщиной», требует развивать «большевистскую самокритику» (см. «Ойротский край». 1931. № 71, 78 и др.) – преддверие кровавой эпохи начинает ощущаться и в отдаленной национальной окраине.
Таким образом, Ойротия – «маленькая, заброшенная в алтайские горы» область, сама того не ведая и вовсе не желая, становится примером борьбы с ошибками в национальном вопросе, т.е. объектом пристального внимания «центра» – политиков и читателей. О читателях (о советской культуре как политико-эстетическом проекте, радикально обращенном к реципиенту см. [29]) и «читательской чехарде» того десятилетия, размышляя о прозе, выразительно сказал Ю. Тынянов: «Читатель сейчас отличается именно тем, что он не читает. Он злорадно подходит к каждой новой книге и спрашивает: а что же дальше? А когда ему дают это “дальше”, он утверждает, что это уже было <…> Писатель тоже сбился с ног – он чувствует “нужное” и “должное”, он создает это нужное и должное, и сразу же оказывается, что это не нужно и не должно, а нужно что-то другое» [30. С. 435].
Место газеты «Читатель и писатель» в ойротском литературном поле
Рассматривая книгу Гордиенко как литературное явление, нельзя оставить в стороне одну из попыток разобраться в этой «чехарде» – хронологически предшествовавшее ей создание центральной газеты «Читатель и писатель» (еженедельника, просуществовавшего с 1 окт. 1927 г. по 23 дек. 1928, ориентированного на периферийную аудиторию). Задачи этого издания настойчиво повторялись из номера в номер: «держать читательский актив и культурные слои провинции (курсив мой. – Т.Ш.) в центре вопросов литературы и искусства; систематически знакомить рабочих, крестьян и комсомольцев с деятельностью литературных группировок, писателей центра и с достижениями литературы и искусства, и в братских республиках, и у нацменьшинств; установить деловой, действительный союз читателя, писателя и библиотекаря и издателя в деле работы с книгой» [31].
Партийная установка в книге П.Я. Гордиенко: критика предшественников
П.Я. Гордиенко, один из идеологических руководителей национальной окраины, называет себя «практическим работником, не являющимся писателем», он выполняет «волю партии и её вождя» и по долгу службы обязан разбираться в том, что «нужно» и что «должно» с идеологической точки зрения. Он взялся за написание книги, обнаружив «искажения в литературе, которые допущены по отношению к Ойротии» [2. С. 8], к числу которых в центральной печати уже была отнесена книга Мамета. В своей «Ойротии» Гордиенко стремится продемонстрировать центру, что новое руководство автономной области, вдохновляемое положениями отчетного доклада Сталина на XVI съезде партии, ведет правильную линию в национальной работе, но таковую заезжие писатели («гастролеры», «галопом проскакавшие в горах Алтая») неправильно освещают. К чести ойротского партработника стоит заметить, что он ознакомился со всеми столичными художественными изданиями 1922–1930 гг., в которых создается образ советской Ойротии. Он назвал произведения крупных литературных фигур, известных в прошлом и будущем (Вс. Иванова, М. Шкапской, Г. Вяткина, З. Рихтер, Д. Стонова), но как личное оскорбление в каждом из них обнаружил «искажения».
Ссылочный аппарат «Ойротии» Гордиенко свидетельствует, прежде всего, о постепенном возрастании интереса центра к региону, но более всего – о начитанности Гордиенко и об его уверенности в собственной (партийной) правоте, позволяющей критиковать литературных предшественников, будь то академик или детский писатель, журналист или ученый-этнограф. Добавим, что ни об одной из упомянутых партийным секретарем книг местная периодика той поры не упоминала, следовательно, ойротские читатели книги Гордиенко могли только на слово верить своему партийному вожаку, резко выступавшему против «искажений в литературе, которые допущены по отношению к Ойротии», в чем убеждает единственная обнаруженная нами рецензия на рассматриваемую книгу [32]. Рецензент приветствует борьбу партийного секретаря Гордиенко с авторами книг о Горном Алтае, являющимися «открытыми» или «замаскированными» великодержавными шовинистами.
Критические нападки Гордиенко на предисловие Ю. Айхенвальда к повести П. Низового «Язычники» (Чита, 1922)
Из собственно художественных произведений более всего от Гордиенко достается повести Павла Низового «Язычники», ставшей к тому времени, как о том свидетельствуют составители первой хрестоматии «Сибирь в художественной литературе», библиографической редкостью [33. С. 3]). Критические нападки Гордиенко были направлены не столько на повесть, сколько на предисловие Ю. Айхенвальда к читинскому изданию 1922 г., в котором Гордиенко усматривает «идеалистическое реакционное мировоззрение, стоящее в непримиримой вражде к марксистско-ленинскому учению» [2. С. 7]) – вполне адекватная оценка работы одного из пассажиров «философского парохода». Интерес Ю. Айхенвальда к книге Низового можно считать свидетельством высокого художественного уровня книги в наше время практически забытого автора.
Ныне имя Павла Низового можно встретить в работах обзорно-справочного характера или в примечаниях и комментариях к изданиям, посвященным его более известным современникам [34. С. 537]. В современных алтайских краеведческих материалах имя Тупикова (Низового) встречается лишь в публикациях, посвященных его другу А.С. Новикову-Прибою [35], нет сведений о нем и в сетевом ресурсе «Литературная карта Алтайского края» [36]; уточненная библиография под знаком «данные указаны не полностью» приведена С.В. Язовской [37. С. 94-96]; в новейшей краевой антологии была напечатана повесть Низового «В горах Алтая» [38].
Алтай, по личному признанию Павла Низового (Павла Григорьевича Тупикова, 1877-1940, одного из активных членов группы «Кузница»), «самая лучшая глава» в его творческой биографии. Он оказался на Алтае в 1918 г. в составе группы писателей и художников, отправленных в Барнаул для культурно-просветительной работы. Впрочем, сам писатель называет другую причину пребывания в горах (в одном из самых красивых мест Горного Алтая – на Телецком озере) – целый год скрывался он здесь «от колчаковских улан». В Горном Алтае он познакомился с известным в Сибири художником Г. Чорос-Гуркиным, о чем не преминул написать в «Автобиографии» 1927 г.: «В 1918 г. с алтайцем художником Г.И. Гуркиным-Чорос сидели мы на скалистом берегу голубой, ревущей Катуни и вслух мечтали, он – о Каракорумской республике русского и монгольского Алтая, – это его давнишняя мечта. Я – о колонии писателей и художников в горах на Катуни (это моя давнишняя мечта) и об издательстве «Алтын-Кун» – «Золотое солнце» [39. С. 25]. Действительно, дом художника в селе Анос был летней штаб-квартирой исследователей круга Г.Н. Потанина [34. С. 50-57].
Выполнение должностных обязанностей старшего объездчика-лесника Телецкого лесничества обогатило представления Низового-столичного жителя о жизни природы и нашло отражение в нескольких небольших произведениях, посвященных Горному Алтаю («В горных ущельях»; «По разным тропам»; «В горах Алтая»), в основном получивших официальные рекомендации «для детского и юношеского чтения». Сам Низовой описывал пребывание в Горном Алтае как увлекательную робинзонаду: «Конечно, я не думал тогда, что год спустя сам буду чем-то вроде президента республики, ведать территорией в несколько тысяч квадратных верст. Буду ходить в самодельных сапогах из оленьей шкуры, самодельных кожаных штанах и такой же шапке. Владения мои будут простираться от истоков р. Бии до границ Монголии, – непроходимая горная черневая тайга с ледниками и каменными хребтами, с бесчисленными горными реками и озерами. И посредине – чудесное, 90-верстное «Алтын-Коль» (Золотое Озеро). Неделями гостил я в юртах первобытного народа – черневых кочующих татар, дружил с камами (шаманами), пил «священную» араку и ел жертвенное мясо только что задушенного коня. В одиночестве тосковал по далекой, горящей в горне, родной Москве. В иные минуты хотелось надеть шаманскую шубу с 9 парами колокольцов, взять бубен – и кружиться, выть в страшной горной пустынности» [39. С. 25–26].
Пассажи подобного типа свидетельствуют о том, что писатель находится в русле становившейся тогда все более отчетливой тенденции к поиску форм выживания литературы под гнетом идеологического диктата. Размышляя об этой тенденции, М.О. Чудакова пришла к выводу, что к середине 30-х годов в стране отчетливо определились условия существования печатной литературы: из неё был исключен слой интеллектуальной рефлексии, эталоном судьбы человека стала жертвенность во имя будущего; современность представала как достижение полноты бытия, нарастал «очищенный» от натуральных подробностей способ описания; историческая проза и литература для детей в этой ситуации стали выходом. «Этот жанр <…> давал возможность сравнительно свободного движения героя в литературном пространстве» [41. С. 248].
Экзотическая природа Горного Алтая как место действия произведений Низового вполне соответствует сказочному канону. Горный Алтай – «страшная горная пустынность», место временного пребывания героя, противопоставляется «горящей в горне» Москве. Наиболее полное художественное воплощение это противопоставление нашло в повести «Язычники», работу над которой Низовой начал на Алтае в 1920 г.: «Я теперь совсем другой: читаю газеты, хожу в театр, иногда бесцельно слоняюсь по многолюдным, шумным улицам. Но еще очень недавно ничего этого не было, и я ничуть не сожалел и не огорчался. Я тогда мог видеть иное: горную тайгу, первобытные калмыцкие аилы и озеро, чудесное “Золотое озеро”. У меня были еще два близких человека. А чаще всего я проводил время один, сам с собою.
Мне страшно захотелось написать обо всем этом <…> но больше всего захотелось написать о самом себе, о переживаниях и одиноких думах своих. Пока еще остры и волнующи эти переживания. Еще ярко и полно я ощущаю и ароматы и краски, возбуждающие тогда мои чувства… И потому я написал эту книгу, посвятив её самому себе» [42. С. 8].
Художественность Низового vs идеологичность Гордиенко
Безусловно, подобное определение тематики позволяло Гордиенко причислить Низового к тем писателям, которые «не замечали или сознательно не хотели видеть острейших процессов классовой и национальной борьбы, проявлений великодержавного шовинизма и местного национализма, игравших на руку контрреволюции» [2. С. 3]. Оно не укладывалось в каноническую рубрикацию сибирской литературы тех лет: 1) туземная Сибирь и сибирская старина, 2) кандальная Сибирь и приискатели, 3) крестьянская Сибирь до революции и переселение, 4) революционное движение в Сибири и гражданская война, 5) новая Сибирь [33. С. 4]. Сам Гордиенко пишет об Ойротии в связи с первой позицией тематического ряда, для которой существовал примерный перечень «проблем для разрешения» под лозунгом «поднятия культуры Сибири, превращенной Октябрьской революцией из царской колонии в равноправную часть РСФСР-СССР»:
«1) быт и религиозные представления туземцев Сибири; 2) политика русского капитала в Сибири; 3) отношение туземцев к царским чиновникам; 4) национальный вопрос в царской России; 5) положение туземцев Сибири в дореволюционной России; 6) национальный вопрос в СССР; 7) положение народностей Сибири в настоящее время (политическое и экономическое); 8) Сибирь – царская колония; 9) нравы и быт старой Сибири; 10) мирские начала в сибирской деревне» [33. С. 6].
Идеолог Гордиенко игнорирует образную природу художественного произведения Низового. Он считает, что если сюжет разворачивается в окрестностях Телецкого озера, то тема книги Низового – Алтай (как географический район и административно-территориальная единица). В реальной современности Алтая Низовой, «поклонник культа сладострастия», не разглядел «гражданскую борьбу и то новое, что определяет эпоху восстановительного и реконструктивного периода, подготовивших все необходимые условия для окончательного завершения построения фундамента социалистической экономики» [2. С. 3].
Если в идеологической риторике Гордиенко литература мыслится только как политический ресурс, то Низовой считает её творчеством и трудом, специфика которого обусловлена «невозможностью в наши дни полностью овладеть жизненным материалом, благодаря его небывалым противоречиям, психологическим неожиданностям и, главное, постоянной текучести» [43]. По его мнению, эпоха предоставляет писателю два пути: легкий (писать модные «рассказы, утверждающие жизнь») и трудный (делать обобщения и выводы, пытаться осмысливать происходящее). Художник вынужден балансировать между «настоящей действительностью» и «агиткой», чтобы не быть обвиненным в контрреволюции. Низовой в своих «Писательских сомнениях» объясняет периферийному читателю, что борьбу старого с новым «современный советский писатель, в особенности пролетарский», осознает и принимает как неизбежное, «всем существом своим чувствует и переживает его хмельное брожение и радостно обоняет тонкий аромат побегов». Метафоричность вегетативного кода Низового вполне допускает такие эпитеты, как вялые, чахлые (о неудавшихся опытах описания нового), – т.к. «слов полнокровных и веских для него пока еще нет» [43].
Повесть «Язычники» была написана вдали от «забот суетного света». Её герой – человек, свободный от быта и переживающий «хмельное брожение» духа. Необычность книги – или «мерцание» новизны, по собственному определению автора, – была отмечена критикой. Так Г.В. Якубовский назвал повесть «книгой настроений и сильного чувства природы», а лирические отступления в её тексте «космическими стихотворениями в прозе»; Низовой, по его определению, «остро, пантеистически чувствует свое родство со всеми проявлениями живой материи в неисчерпаемом богатстве органических форм растительного и животного миров» [44. С. 5–6]. Другой критик той поры, А.И. Зонин, тонко чувствовавший поэтические тенденции эпохи (см. об этом [45]), считал, что Низовой удерживается на тонкой грани между романтизмом и натурализмом, люди у него – «только рупор для выражения определенных настроений, только частности общей суммы людей, нужных художнику для кино-картины изображения отдельного куска жизни. Низовой – несомненный импрессионист» [46. С. 9–10]. Сравнение манеры Низового с кино-картиной вызвано, скорее всего, новаторскими экспериментами Л.В. Кулешова. Его «творимая земная поверхность» и «творимый человек» были тогда у всех на слуху; о чем свидетельствует участие литературоведов в известном сборнике «Поэтика кино» [47]. «Переваловец» Д.А. Горбов, отметив противоречие между «субъективно-импрессионистской и реалистически-бытовой манерами» в поэтике Низового (сам из низов), поставил писателя в один ряд с Н. Успенским, Н. Лесковым и М. Горьким, причислив его к типу «демократического писателя-разночинца» – бродяги. По его мнению, Низовой в “Язычниках” совершает «глубокую разведку во внутренний мир личности, раскрывает в ней биологию в конце концов лишь для того, чтобы вернуть познание этих глубоких биологических пластов миру социальному, личности общественной» [48. С. 18]. Как видим, современниками книга Низового оценивается по-разному: в художественном отношении она «интересна и значительна», в идеологическом – демонстрирует «идеалистическое реакционное мировоззрение, стоящее в непримиримой вражде к марксистско-ленинскому учению» [2. С. 3–4].Эти два полюса оценок могло породить само название книги. Язычество как воззрение на мир апологизировалось литературой серебряного века [49], а послереволюционной атеистической пропагандой отрицалось вместе с иными формами веры и религии. Гордиенко-идеолог мог воспринять название книги Низового буквально, ведь малочисленные северные алтайцы, жившие в прителецкой тайге, действительно, были в то время язычниками. Поверхностно понятая тематика стала основанием для принципиальной «марксистской» критики и обвинений Низового в идеологическом разврате.
Для раскрытия замысла повести Низового важна «глобальная идея языческого сознания – представление о родстве человека и природы» [50. С. 651], выразителями которого в книге Низового становятся столичные безымянные интеллектуалы он и она. Роскошная природа окрестностей Телецкого озера в её первобытной нетронутости естественно превращает цивилизованного человека (Я-повествователя, героиню-ученого) в язычника, заставляет слиться с нею, вернуться к истокам, приобщиться к космическому началу, к единому мировому разуму: «Мне хорошо от солнца, ветра, цветов и маленькой букашки. Радостно ощущать проявление единой, многоликой жизни» [42. С. 9–10]. Заметим, что эта же мысль развивается в другой повести Низового, написанной в 1922 г. на основе горно-алтайских впечатлений – «Пути моего духа». Во 2-м томе собрания сочинений Низового (Земля и фабрика, 1928 г.) эти два произведения образуют смысловое кольцо, в котором главенствующая роль отведена природе; географический образ Телецкого озера становится в них символом первозданности, купели, всеочищающего потопа и залогом человеческого начала. Золотое озеро – место силы и обретения уверенности для новой жизни, в которую в финале уходит герой – «город снова зовет к себе». И в той, и в другой повести безымянный персонаж пребывает в циклическом календарном времени и в замкнутом, точнее, надежно огороженном горами пространстве – но это время и это пространство своеобразного эксперимента, задача которого – пройти «духовный путь» интеллигенции, цель – обрести разрушенное социальными потрясениями единство внутреннего мира.
Явно полемизируя с Низовым, Гордиенко 18-ю часть своей «Ойротии» называет «Интеллигенты», объясняя, как и почему могли оказаться в Горном Алтае люди («безлюдье») типа чуждого ему Низового. Общие черты таковых: интеллигентская расхлябанность, ропот и неверие в социалистическое строительство, враждебность и ненависть. «Местная туземная ойротская интеллигенция состояла почти исключительно из элементов, связанных с прежним миссионерством, развращенных им и искалеченных на всю жизнь. Кроме того, значительная часть её была втянута в каракорумские дела, заражена областничеством… вихрем гражданской войны и революции в горы занесло немало случайных элементов…» [2. С. 95]. В этом пассаже можно усмотреть прямой намек и на биографию Низового, и на личности Г.И. Чорос-Гуркина и его соратников по Горной Думе. Таким образом, Гордиенко (выразитель вульгарно-социологических воззрений, трактуемых с регионалистских позиций как «централизм») объединяет Низового с носителями внутренней ментальности региона, мистики места, со всеми его genii loci.
Эту мысль подтверждает произведенная Гордиенко группировка вокруг текста Низового книг с «языческой» алтайской тематикой, по мнению идеолога, «потерявших всякий интерес и значение для современной Ойротии» [2. С. 5]. В указанную группу попали литературные обработки алтайских сказок и легенд, сделанные Вс. Ивановым и Г. Вяткиным, опубликованные Владимирцовым тексты монголо-ойратского героического эпоса, этнографические исследования Анохина – «бесполезная трата бумаги», «утильсырьё», ведущее к «засорению мозгов» [2. С. 5]. Таким образом, язычество становится у Гордиенко маркером алтайской (ойротской) этнокультурной идентичности и, соответственно, местного национализма, поводом дискурсивно присоединить столичного писателя Низового к краткой истории самоуправляемого Горного Алтая, что неизбежно приводит к обвинению писателя в контрреволюционности.
Повесть «Язычники» П. Низового
Остановимся подробнее на названной повести художника. Низового занес в алтайские горы «вихрь» гражданской войны. Поэтому символика пожара, горнила становится в его произведениях знаком исторического времени, из которого сознательно исключает себя безымянный герой (не указываются причины и обстоятельства появления этого городского жителя в самом сердце гор), переходящий во время календарное, в природные ритмы. Он противопоставляет огням больших городов и заревам пожарищ цветение огоньков (купальниц) на весенних горных полянах. Девственные алтайские горы для него – столп и основание человечности, которую легко потерять в «горящем и бредящем» (Е. Замятин) мире. В этом пространстве и времени язычник и его alter ego Степан – единственные представители цивилизации, оказавшиеся среди «первобытных» алтайцев (затем на берегу появятся ученые из экспедиции). Совершенно естественным образом они пребывают в мистическом хронотопе девственной природы, между небом и землей.
«На перевале опять много неба. Парадно выстроились ряды гладкоствольных, мачтовых осин (явная опечатка: должно быть «сосен». – Т.Ш.). В широкий просвет смотрим, будто с террасы. Под ногами – зеленое пространство, наполненное безднами и вершинами деревьев. За ним, странным, непостигаемым пространством – гряды огромных гор, задернутых подсиненным тюлем. На больших, завешенных одним слоем, виден хвойный лес. На следующих тюль этот гуще, и лес за ним еще угадывается. А там еще и еще, все бледнее и бледнее, – и в самой дали не определишь: горы это или стада легких облаков, которые сейчас разбредутся по необъятной знойной степи» …» [42. С. 11].
Язычник Низового как бы вторит В.В. Розанову (посмертное издание «Уединенного» В.В. Розанова вышло в том же 1922 г.), ставя вопрос о необходимости новой религии для доброй половины человечества, религии, соответствующей новой культуре и современному уровню знаний. «Такая религия, в которой божеством была бы великая творческая сущность, а святынею – человеческое тело; в кондаках и тропарях славословились бы мгновения любви и зачатия, а канонами утверждалась страсть» [42. С. 34] . Низовой создает собственные варианты «Песни песней», язычески звучащие на фоне алтайских гор. «Два венка я тебе сплел: в праздник весны, из аромата первых встреч, дум и томлений, и чувства моего весеннего! И второй – из зноя страсти, огненных касаний и трепета зажженного тела!» [42. С. 82].
«Впереди, позади, по сторонам – горы и горы. И на них угрюмая, девственная тайга. В большом извилистом ущелии сверкает лента воды. Это Алтын-коль – “Золотое озеро”» [42. С. 12] – вот самое краткое описание художественного пространства повести, своеобразный конспект, каждый из элементов (гора, озеро, лес) которого описан в тексте во множестве вариантов. Присутствие гор в залитом солнцем мире персонажей символизирует порядок, противостоящий хаосу той действительности, из которой исключил себя повествователь. Первобытность – один из ключевых мотивов текста. Низовой объединяет в нем первоначальность и исходность с естественностью и нетронутостью. Только на берегу фантастически красивого Телецкого озера, которого еще не коснулось тлетворное дыхание цивилизации, возможно естественное течение жизни во всех её формах. Здесь все рождается, развивается и умирает только по законам природы, все управляется «бессознательной мудростью инстинкта» и всё происходящее оправдывается вечностью. В этом мире действуют только законы природы, перед которыми равны и забывший про рефлексию столичный житель, и вооруженная научным знанием Язычница, и кочующие по округе коренные жители этих мест – алтайцы. Только на этих берегах на героя снисходит великая благодать понимания языка всех людей и языка природы – это выражается в традиционном для литературного воображения Горного Алтая описании шаманского обряда (в начале и в конце произведения).
Безусловно, тема первобытных (языческих) представлений коренных обитателей прителецкой тайги в повести Низового была предопределена знакомством с творчеством Г. Гуркина (о работе писателя с этнографическими источниками сам Низовой и его биографы не упоминают). Пониманию особенностей риторической составляющей сакрального дискурса Алтая у Низового может способствовать небольшая заметка Г.Н. Потанина о выставке работ Г. Гуркина в Томске в 1907 г.: «Алтай Кижи, т.е. алтайский инородец одухотворяет Алтай: в его глазах это не мертвый камень, а живой дух. Продукты горной природы он принимает как дары, которыми Алтай сознательно осыпает своих обитателей; поэтому человек выражается, что у пустыни длань сжата в кулак, а длань щедрого Алтая раскрыта. Он проникается благодарностью и уважением к своей горе, а величие снежных вершин внушает ему и боязнь перед горой. Он не может назвать гору иначе как хан Алтай, т.е. «царь Алтай» или «царственный Алтай». Мистический страх перед снежными вершинами распространен не только в сибирских горах, но и в Монголии и Тибете. По всей центр Азии рассеяны «поклонные горы», которым жители поклоняются, как могущественным богам <…> величественному спокойствию и тишине белков соответствует только чистое непорочное мышление. Культ горы имеет для жителей Азии этическое значение» [51]. Частью этого культа являются приводимые Низовым фрагменты языческой молитвы Алтаю, скорее всего, услышанные от местных жителей или заимствованы из архива Чорос-Гуркина; в опубликованных текстах шаманских мистерий у Радлова, Потанина и Вербицкого совпадений нами не обнаружено. Молитва людей и природы сливается в торжественный гимн, который в этом идиллическом мире слышат «светлый Ульгень, сидящий в своей царственной неподвижности на седьмом небе», «мрачный Эрлик, живущий в темном царстве при устье семи рек», Хан-Алтай и Белый Зайсан, десятки больших и малых, добрых и злых духов.
В XVII и XVIII частях повести герой – участник камлания. Он принимает чашу с ритуальной теплой аракой (молочной водкой) из рук шамана, передает её, по алтайскому обычаю, сидящему рядом, и уже эти люди и это жилище не кажутся ему странными. Все элементы подготовки к обряду жертвоприношения и сам обряд фиксируются в повести с этнографической точностью, присущей картинам Г.И. Чорос-Гуркина, в частности, его известного полотна «Ночь жертвы (Камлание)» (1895). Кульминационный эпизод жертвоприношения – распятие живой лошади – Низовой описывает без смакования натуралистических подробностей. Его герой смотрит на все происходящее так же естественно, как любой другой участник обряда. Эти сцены из повести перешли в автобиографию (пил «священную» араку и ел мясо задушенных жертвенных животных).
В сцене камлания наиболее ярко проявляется мотив этничности: переживание языческого ритуала становится своеобразной инициацией – в герое просыпается русскость, постепенно осознаваемая им как естественное, от Природы идущее начало, такое же, как и у алтайцев: «Рус кижи якши! (досл. «русский человек хороший». – Т.Ш.) Алтай закон якши!» [40. С. 53]. Провожая его с поляны камлания, старая алтайка естественно и просто пожелает ему – «русскому» – здоровья. Подчеркивание Низовым русскости и алтайскости как равновеликих и природных начал (а не апологетика национальных меньшинств) может быть интерпретировано как защита этничности от манипуляций сторонних людей. Гордиенко сразу уловил идеологический диссонанс в звучании этого мотива, а потому включил Низового в свой список писателей, обвиняемых в великодержавном шовинизме и местном национализме. Остается удивляться, как П. Гордиенко еще не поставил Низовому в вину факт братания с шаманом как с социально чуждым элементом: «Кам (шаман. – Т.Ш.) в это время угощает всех освященной аракой. Обращаясь ко мне, он извиняется:
– Алтай закон!.. Алтай закон!.. Я одобряю: - Алтайский закон – хороший… Якши! Улыбается. Жмет руку. – Якши, Якши!. Алтай закон худа нет!... И мы, как давнишние друзья, пьем пополам, чашку за чашкой, пахучую молочную водку» [42. С. 58].
Низовой был первым (и, наверное, единственным) из пишущих о Телецком озере, кто не упомянул топонимическую легенду, объясняющую его алтайское название «Алтын Кёль» – «Золотое озеро», заменив это солнечной палитрой созданного им мира. «…Поляна с огоньками. Вся в солнце. В огне и в солнце!
Дрожит, переливается, расплылось горящими узорами. Даже пахнет солнцем. Вверху с радостным криком купаются два подорлика, а вокруг них стайка сорок в новеньких фраках. На мшистом камне свернулась змея. Заслышав шаги, подняла голову, и в раскрытой пасти затрепетал длинный, острый язык. Но я не поднимаю ружьё: пусть живет и пьет солнечную радость» [42. С. 18].
На фоне этой солнечной феерии он впервые видит Язычницу – женщину с золотистыми волосами. Фрагмент внешности (золотые волосы) увязывает героиню, по-алтайски называемую Алтын-Кыс, с главным топосом – озером (Алтын-Кёль). Архаичная метафора земля / женщина, конечно, никак не вяжется с советским дискурсом, но соотносится с алтайским архетипом «дьер-суу» – досл. «земля-вода», объединяющим мотив первопредков с мотивом защитной силы природы. Повествователь думает о женщине как о старой колдунье, «пьющей с огненных цветов волшебный сок молодости», и подчиняясь древнему инстинкту, приносит ей жертву – речного орла. Колдовские чары начинают действовать, пробивая психологическую защиту от прошлого, одной из форм которой и является уход в первобытную природу, и он вспоминает о юношеской дачной влюбленности (эпизод в духе «Темных аллей» И. Бунина), рассуждает о великом разуме природы, создавшей и прекрасный цветок, и свинью, которая его съела (притча-воспоминание). В природе все целесообразно, и герои отдаются воле плоти, упиваясь светом и цветением.
Эротическая линия в повести Низового была подчеркнута как один из языческих мотивов Ю. Айхенвальдом: «… всякая душа – язычница: ведь душа неотделима от тела, а тело, во всяком случае, – язычник. Возникло оно из недр первичного бытия, вернется в эти недра, и пока живет, и когда умрет, всегда сливается оно с великим телом вселенной, с благословенной плотью мира. А чувствовать благословение плоти, молиться ей, радостно растворяться в океане природы и ощущать самую физиологию её – это значит быть язычником» [52. С. 6]. Мотив цветения сопряжен в повести с мотивом оплодотворения как непременного условия продолжения жизни, как атрибута весны, пантеистического воспевания человека как плоти от плоти земли:
Изнеженная, истомленная весенними ласками, раскинула свое страстное тело древняя, вечно юная Земля. Миллиарды любовников только что оплодотворили её, но она ждет новой и новой любви. Я один их тех, кому она дарит свои страстные и нежные ласки. И я хочу сейчас признаться ей в своем безмерном чувстве. Я люблю тебя, я преклоняюсь перед тобой, я молюсь тебе, целомудренная, святая, бесстыдная, грешная Земля. Переступая таинственную, немыслимую грань зачатия, к тебе первой стремилось мое человеческое существо; и когда совершив свой жизненный путь, оно дойдет до другой грани – ты последняя примешь его в свои объятья! Страсть моя горела к тебе еще до моего рождения! Целые века, неисчислимые периоды развития я постоянно питал её к тебе. И по воле твоей непредотвратимой воле – менял свои формы, поднимаясь по лестнице совершенства все выше, до самых верхних ступеней её! В каждое мгновение круга моей человеческой жизни я был в тесном любовном союзе с тобою! Чувствовал твою любовь, твои нежность и материнство! И ты всегда владела моей душой и моей страстью!.. [42. С. 25–26].
Воплощением идеи материнства в повести является Язычница, женственность которой не скрывают ни грубые простые ботинки, ни серая мужская блуза с поясом – она в повести одновременно и бабочка, которая «настоящей, яркой, солнечно-пьяной жизнью живет один день», чтобы исполнить великую симфонию жизни – не случайно это происходит в целомудренной чистоте алтайской природы, вдали от погрязших в грехе столиц, и Афродита, выходящая из пены озерной; «хмелем жизни насыщена каждая частица тела» [42. С. 59]. В Язычнице Низового контаминируются черты главных женских образов романа Андрея Белого «Серебряный голубь».
«Для героя “Язычников”, – пиcал Айхенвальд, – драгоценен культ человеческого тела; он поклоняется ему как святыне: да и вообще телесной любви, могуществу пола, хотел бы он воздвигнуть самый высокий алтарь и возносить на нем пламенные жертвы сладострастию. Объятиям любви <…> посвящены Низовым прекрасные страницы, – прекрасные в самой бесстыдности своей. Ибо для язычника, как и для ребенка, не существует стыда» [52. С. 10]. Вполне понятно, что телесность как составляющая мотивной поэтики «Язычников» Низового вызывала неприятие Гордиенко (как и литературоведов более позднего времени, сводивших повесть только к биологическому началу, к «греховной окраске» [53. С. 102–105]), безапелляционно утверждавшего: «Вредна, контрреволюционна такая книга» [2. С. 8].
Контрреволюционность могли усмотреть и в том, что в художественном мире Низового главный персонаж исторической эпохи – человек с ружьем (замятинский дракон) – преображается, его огнестрельное оружие (трехстволка – явный намек на излюбленный авантюрно-приключенческой литературой «Зауэр») метафорически убивает время (Степан начинает каждый новый день с выстрела в дерево – в конце повести из него будет извлечено 122 пули), оружие поднимается только для того, чтобы добыть дичь для пропитания. Повествователь и Степан представляются охотниками при встрече с учеными ботанической экспедиции. В повести подробно описана только одна сцена охоты – на марала, ключевая в развязке сюжетной линии «Он-Она» (охота на маралов начинается в сентябре, с началом гона, когда самцы теряют осторожность и трубят, вызывая соперников; когда начинается новый виток жизни).
В этом эпизоде алтаец Сапыш, спутник рассказчика, вооруженный «двадцатифунтовой монгольской винтовкой с подставкой у ствола» (один из маркеров отсталости в советском горно-алтайском травелоге), ведет его ночью на солонец. В описании алтайской ночи и её восприятия героем лейтмотивная мысль автора о мудрой, великой, недоступной для человека жизни природы звучит особенно сильно. Благоговейный трепет перед гармонией утра заставляет столичного охотника забыть о ружье – настолько красив и органичен зверь в этой картине:
Внезапно раздался звучный, потрясший весь лес, крик, – будто кто затрубил в большую серебряную трубу. В первый момент мне даже подумалось, что это дух гор будит природу, зовет всех, больших и малых, обитателей тайги к дневному радостному труду. И в этот момент неподалеку, с моей стороны, к озеру выбежал красивый, легкий зверь с ветвистыми рогами. Добежав до воды, он сразу остановился и, подняв голову, снова затрубил. Теперь уже не казался странным этот звук. Но все-таки это было похоже на приветствие грядущему дню [42. С. 70].
Увиденное перевоплощается в притчу об олене, летящем к солнцу. Притча эта рождается в момент последней встречи с Язычницей как «сказка, которую ты еще никому не рассказывал»; герой только что вспомнил все этапы развития их отношений и почувствовал, как сильно переменилась женщина, но еще не понял истинную причину этой перемены. На фоне озера, под шумящими над головой кедрами он начинает сочинять свою «сказку» в стиле ранних романтических произведений Горького и с горьковской же трактовкой солярного мотива: «В горах бежит олень. От ветвистых рог его льется сияние, из-под тонких, быстрых ног, вместе с камнями, летят искры. Он несется по ущелиям, перепрыгивает через пропасти, скачет с гребня на гребень и все кричит, одно кричит: «К солнцу!» [42. С. 77].
В неудержимом полете к пылающему светилу его никто не может остановить, и зверь делает смертельный скачок со скалы, чтобы достать рогами солнце. «Таков удел заносчивых и гордых, – сказала глубокомысленно жаба, взглянув под кручу. И все смеялось в горах» [42. С. 78].
Он и Она поклоняются солнцу – источнику всего живого на земле и сами становятся звеном единого жизненного процесса. «Солнце, ветер, обильная влага утренних и вечерних рос. И каждое живое, от слизняка до человека – все это извечные любовники Земли. Извечно оплодотворяют её, неистощимую в своих зачатиях…» [42. С. 9].
Животворящее солнечное начало воспевается Низовым в лирических отступлениях, в описаниях горных пейзажей, естественной смены природных циклов. Буйство весеннего цветения сменяется роскошной зрелостью лета, цветы и травы дают семена, подросли птенцы – природа исполнила вечное предназначение. Столь же естественно заканчиваются отношения героя с Язычницей – зачав, она уходит, неся в себе продолжение жизни; великое женское счастье – оно не в том, что было между ними на фоне первобытной природы, а в том, что ждет впереди. Подобное завершение сюжетной линии «он - она» приводит к выводу, что, по Низовому, новый человек великой грядущей эпохи может быть зачат только на естественной и чистой земле, не утратившей рождающего начала, Земле-Матери.
Но если представления женщины о будущем связываются с совершенно естественным биологическим актом – с рождением ребенка, то герой, обретя в горах, ближе всего к солнцу, «способность спокойно, холодно мыслить о самом близком», предвидит, что природная гармония, где все «имеет свой путь и свою цель: и солнце, и лишайник, и болотный микроб в хоботке комара», отступит перед цивилизаторской поступью новой эпохи. В планетарном масштабе материнским лоном нового человечества (как сообщества ярких индивидуальностей) он мыслит Россию:
…от неё во все стороны токи. От неё – мысль и воля. В ней, еще пылающей, нервной, больной, сосредоточен могучий импульс народов… Мне кажется, я постигаю дух и творчество; улавливаю бег пытающей и создающей мысли. Вижу архитектуру, сочетающую в себе: дерзновенный порыв к извечному, спокойствие всепроникающей мысли и напряженность творческого духа. Они выразились в необычайном размахе фантазии, законченной выразительности линии, её упругости и силе. Слышу музыку, в которой трепет миллионов сердец, отражения мысли и духа, новые миры и сложнейшие ощущения личности, познавшей себя в космосе.
В поэзии обретаю солнце, радость, напряжение и целомудрие; обнаженное целомудрие. Все это сочеталось в ней и бьет, как из мощного, обжигающего ключа.
Необычайный расцвет искусства и дерзание мысли, каких еще не знала история. Все это прежде и больше всего в России. Достижения техники, промышленная культура, социальное строительство выше всего в Германии [42. С. 65–66].
Заключение
Именно этот планетарный гуманитарный творческий импульс, наличествующий в переживаемой страной эпохе, новое видение действительности, обретенное столичным писателем «во глубине» сибирских гор», не уловил в книге Низового П.Я. Гордиенко – он не был писателем, он был партийным функционером, а потому причислил яркую художественную книгу Низового вместе с научно-публицистической «Ойротией» Мамета к идеологически вредным явлениям действительности, тем самым вычеркнув их из чтения. И если книга Мамета попала в число возвращенных, то Низового с его импрессионистически-языческим Алтаем еще предстоит открыть современному читателю.
Т.П. Шастина
Список литературы
- Низовой П. Язычники. Чита: Утес, 1922. 112 с.
- Гордиенко П.Я. Ойротия. Новосибирск: ОГИЗ, Запсиботделение, 1931. 144 с.
- Кондаков Г.В. Духовное согласие: Русско-алтайские взаимосвязи советского периода. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. книжного изд-ва, 1983. 199 с.
- Чащина Л.Г. Русская литература Горного Алтая: Эволюция. Тенденции. Пути интеграции. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. 249 с.
- Кудинов И., Свинцов В., Юдалевич М. Литературное Беловодье: история писательской организации Алтая.- Барнаул: ОАО «Алт. полигр. Комбинат», 2001. 96 с.
- Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX веков: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во ТГУ, 2005. 304 с.
- Шастина Т.П. Горный Алтай: литературное вхождение территории в состав имперских пространств // Филология и человек. 2013. .№ 1.
- Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Изд-во «АРТА», 2010. 363 с.
- Моя судьба в судьбе Алтая.- Горно-Алтайск, 2006.
- Гордиенко Ю.П. Слово об отце //Алтай. 1973. № 1.
- Гордиенко Ю.П. Мгновенное, вечное…: Стихи, поэмы. М.: Советский писатель, 1985. 256 с.
- Долгоруков В.А. Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России. Томск, 1903–1904. 558 с.
- Ойротский край. 1922. № 1.
- Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. СПб.: А.Ф. Девриен, 1913. 298 с.
- Долгих И. Снежный поход (Воспоминания о разгроме банды Кайгородова) // Десять лет Советской Ойротии: Политико-экономический сборник. Улала, 1932. С. 100–104.
- Потанин Г.Н. Тема об усеченной голове в Орде // Этнографическое обозрение. 1893. Кн. XVI.
- «Это была наука, и еще какая»! (Со старейшим российским этнографом Л.П. Потаповым беседует В.А. Тишков) //Этнографическое обозрение. 1993. № 1.
- Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. / Пер. с англ. О.Р. Щелоковой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. 855 с.
- Сталин И.В. О политических задачах университета народов Востока: Речь на собрании студентов КУТВ 18 мая 1925г. // И.В. Сталин. Сочинения. Т. 7. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1952. С. 133-152.
- Мамет Л.П. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и гражданской войны на Горном Алтае. Репринт. Горно-Алтайск: «Ак-Чечек», 1994. 181 с.
- Трудовой список. Гордиенко Петр Яковлевич. ГАС РА. Ф. 33. Оп.1. Ед. 432.
- Майдурова Н.А. Горный Алтай в конце XIX – начале XX вв. Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт», 2000.
- Каташ С.С. К вопросу о реабилитации Г.И. Гуркина// Возвращение: Сборник докладов и сообщений научно-практической конференции «Чорос-Гуркин и современность». Горно-Алтайск, 1993. С. 176–183.
- Ойротский край. 1930. № 88.
- Тайшин М. Политграмота: Учебник для деревенских школ-передвижек и самообразования. М., Л.: Московский рабочий, 1928. 334 с.
- Соболев В.С. Академия наук и краеведческое движение // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 6.
- Папардэ Л.А. Очередные задачи ойротской партийной организации. Из доклада представителя Сибирского комитета ВКП (б) / /Ойротский край.1930. № 39.
- Добренко Е. Формовка советского читателя: Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. 320 с.
- Тынянов Ю.Н. Литературное сегодня / Ю.Н. Тынянов. История литературы. Критика. СПб.: Азбука-Классика, 2001. С. 435–458.
- Читатель и писатель. 1928. № 9.
- Южный Л. Первая большевистская книга об Ойротии // Красная Ойротия. 1931. № 137.
- Вейсберг Г.П., Пушкарев Г.М. Сибирь в художественной литературе. М.,Л.: Гос. изд-во, 1927. 306 с.
- Из истории советской литературы 1920–1930-х гг. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 93. М.: Наука, 1983. 759 с.
- Остертаг Л. 125 лет со дня рождения советского писателя А.С. Новикова-Прибоя // Барнаульский хронограф. 2001.
- Язовская С.В. Литература 20-х годов ХХ века на Алтае. Барнаул, 2011. 151 с.
- Образ Алтая в русской литературе Х1Х–ХХ веков. Том 3 / Сост., подгот. текста, вступит. ст. и коммент. А.И. Куляпина. Барнаул: Изд. Дом «Барнаул», 2012. 456 с.
- Низовой П. Автобиография // Низовой П. Рассказы. М.: Изд-во писателей «Никитинские субботники», 1927. С. 22–26.
- Прибытков Г.И. Чорос-Гуркин. Горно-Алтайск, 2000. 188 с.
- Чудакова М.О. Сквозь звезды к терниям. Смена литературных циклов // Новый мир. 1990. № 4.
- Низовой П. Язычники. / Павел Низовой. Собрание сочинений. Том 2. М., Л.: Земля и фабрика, 1928. С. 9–89.
- Низовой П. Писательские сомнения // Читатель и писатель.1928. № 7–8.
- Якубовский Г. Павел Низовой. Жизнь и творчество // Павел Низовой. Рассказы. М.: Изд-во писателей «Никитинские субботники», 1927. С. 5–21.
- Фатеева И.А. А.И. Зонин в общественно-литературной борьбе 1930 г. // Вестник Челябинского гос. Ун-та. 2012. № 6. Филология. Искусствоведение. Вып. 64.
- Зонин А. Павел Низовой // Низовой П. Собрание сочинений. Т.1. Черноземье. 3-е изд. М., Л.: Земля и фабрика, 1928. С. 9–28.
- Поэтика кино: Сб. статей [c переизданием сборника 1927] / Под общей ред. Р.Д. Копыловой. СПб: РИИИ, 2001. 261 с.
- Горбов Д.А. Павел Низовой // Низовой П. Черноземье. 4-е изд. М., Л.: Земля и фабрика, 1930. С. 9–20.
- Эткинд А. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.: ИЦ-Гарант, 1996. 413 с.
- Мильков В.В. Язычество славяно-русского общества / Русская философия: Словарь. М.: Терра, 1999. С. 649–651.
- Потанин Г.Н. Этнографическая часть выставки Г. Гуркина // Сибирская жизнь. 1907. 29 декабря.
- Айхенвальд Ю. Предисловие / Низовой П. Язычники. Чита: Утес, 1922. С. 5–13.
- Русская советская повесть 20-х – 30-х годов / Под ред. В.А. Ковалева. Л.: Наука. 1976. 254 c.