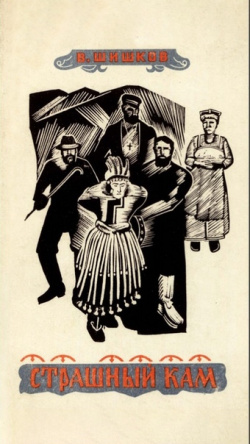«Страшный кам» В.Я. Шишкова: областническая традиция в раннесоветском опыте репрезентации национальной окраины
Содержание
- 1 Отражение этнографического разнообразия Сибири в раннесоветской литературе
- 2 Алтай в очерке «Любителям красот и природы» В.Я. Шишкова
- 3 Шаман как обязательный атрибут Горного Алтая
- 4 Замысел «Страшного кама» В.Я. Шишкова
- 5 Сюжет повести Шишкова
- 6 Страх как ключевой мотив «Страшный кам»
- 7 Особенности алтайского представления кама
- 8 Идеологическая составляющая повести
- 9 Заключение
- 10 Список литературы
Отражение этнографического разнообразия Сибири в раннесоветской литературе
В новейших трудах, посвященных теме «Сибирь в русской литературе», центр тяжести смещается от исследования локальных составляющих «сибирского текста» [1]; [2]; [3]; [4] к осмыслению процессов художественной репрезентации и идеологического конструирования Сибири как русского Востока [5]; сибирский текст проецируется на концепт периферии [6]. В числе маркеров периферийности в раннесоветскую эпоху русской литературы на первом месте оказываются этнографическое разнообразие и местные культовые практики [7. С. 95-118]. Аналогичные исследования активно ведутся и на русском Севере [8], и на Урале [9]; [10]; [11], уточняя и расширяя научные представления о России как объекте литературного воспроизведения.
Ярко выраженная этнотерриториальная идентичность позволяет вычленить в составе сибирского сверхтекста алтайский текст [6], своеобразным итогом изучения которого явилась антология «Образ Алтая в русской литературе» [12], логически продолжающая подготовленное сотрудниками Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова хрестоматийное издание «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XIX веков» [13]. В физической географии Алтай – это горная страна на юге Сибири и в Центральной Азии, принадлежащая России её часть называется Русским Алтаем; ныне практически в его границах находится Республика Алтай (топоним «Алтай» в названиях указанных книг требует пояснения: речь идет о художественно-идеологическом воображении нынешних территорий Алтайского края и Республики Алтай, вышедшей из состава края в 1991 г.; поскольку в обиходе Алтаем называют и Алтайский край, и Республику Алтай, во взгляде извне это создает путаницу – столичные СМИ довольно часто синонимизируют названия этих административно-территориальных единиц).
«Алтай великолепен как Афон: повсюду грозно величественные картины природы в чрезвычайно разнообразном смешении с видами невыразимо-приятными <…> Красота и величие Алтая возвышают дух до восхищения; смотря на эти горы Божии, невольно чувствуешь какой-то благоговейный ужас, – писал миссионер Стефан Ландышев, отмечая резкий контраст между природной красотой Алтайских гор и крайней дикостью населяющих это пространство народов, – но Афон сияет истинным Благопочитанием и благочестием <…> А в Алтае еще господствует тьма идолослужения; темные силы имеют здесь свои орудия; 36.000 кочевых татар и калмыков приносят кровавые жертвы бесам (курюмес): Ульденю, как главе добрых духов, и Эрлику, как начальнику всякого зла» [14. С. 1]. Коренное население Горного Алтая, вошедшего в состав Российской империи в 1756-1757 гг., лишь с конца XIX в. стало употреблять в качестве самоназвания этноним «алтайцы» (алтайский народ) [15. С. 150]. В.И. Вербицкий называл алтайцами (алтайскими инородцам) всех коренных жителей Томской губернии, окормляемых Алтайской духовной миссией [16]; [17]; в травелогах XVIII-XIX веков их чаще всего именуют калмыками (белыми калмыками).
Миссионерами были собраны фольклорные источники о происхождении шаманства у алтайцев, относящие формирование этого языческого культа к окончанию потопа и связывающие возникновение шаманов (по-алтайски камов) и их наречение с решением верховного доброго божества алтайского пантеона Ульгеня: «Отныне будет имя твое Кам. Кто будет подражать тебе, тот не будет иметь богатства на земле» [18. С. 27]. Нам уже приходилось отмечать, что без шамана не обходилось практически ни одно сочинение о Горном Алтае XVIII – первой трети XX вв. [19. С. 78].
Алтай в очерке «Любителям красот и природы» В.Я. Шишкова
В.Я. Шишков, с именем которого вопреки биографии традиционно ассоциируется представление о собственно сибирском писателе, впервые по делам службы оказался в Горном Алтае в 1910 г. и был сразу покорен красотой горных ландшафтов. На соединении искреннего восхищения увиденным и профессиональной инженерной оценки дорожных условий выстроен его первый алтайский очерк «Любителям красот и природы» [20]. В изыскательских работах на Чуйском тракте (ныне федеральная автодорога Р256 Новосибирск – государственная граница с Монголией; исторически – торговая дорога от г. Бийска до границы с Монголией, протяженностью около 630 км.) он провел летние сезоны 1913-14 гг. Обращаясь к своему идейному вдохновителю и, пожалуй, главному на тот момент знатоку Горного Алтая Г.Н. Потанину, Шишков восклицал: «Алтай красив. В особенности его вечные снега, земли надгробие. Что за прелесть Чуйские Альпы. А густые пушистые букеты розового маральника, которыми щедро убран Алтай рукою Ангела, почивающего на вечных снегах?» [21. С. 292]. Собранные по указаниям Г.Н. Потанина во время этой экспедиции материалы и наблюдения были занесены, как говорит сам Шишков, не только в «памятную книжку», но и в сердце. Возникшие на их основе замыслы настолько захватили начинающего писателя: «Боюсь только, как бы не треснула голова и душа не помутилась бы» [21. С. 292]. Круг «алтаелюбов» [22. С. 6], разделявших областнические идеи Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, в который на Алтае вошел Шишков (художник Г.И. Чорос-Гуркин, писатель Г.Д. Гребенщиков, этнограф А.В. Анохин), активно занимался изучением этнографии и фольклора алтайских инородцев; местом базирования их летних экспедиций традиционно был район нижней Катуни (село Чемал и деревня Анос, где располагалась усадьба гостеприимного художника Г.И. Чорос-Гуркина).
Шаман как обязательный атрибут Горного Алтая
Г.Н. Потанин называл это место «чемальским тупиком» (поскольку далее начинались непроходимые горы), сохранившим до начала ХХ века традиции шаманизма в его естественном бытовании (а в то время «калмыки и теленгиты уже бросали культ шаманства и, под влиянием своего мессии Чет-Челпанова, переходили в бурханизм (упрощенный буддизм)» [23. С. 24]). В газетных публикациях 1900-х гг. Г.Н. Потанин, популяризируя этнографические знания, часто писал о шаманах Чемальской долины [24], [25]; в этой долине под его руководством собирался материал для первого сборника алтайского фольклора [12]. Безусловно, искренне любивший Г.Н. Потанина Шишков был знаком с этими очерками, предвосхитившими его встречу с алтайскими шаманами (о более чем теплом отношении Шишкова к Потанину свидетельствуют обращения к адресату в письмах Шишкова и – особенно – посвященная Шишковым патриарху сибирских областников аллегория «Скала» с её топографической привязкой художественного пространства сна к месту слияния реки Ильгумень с Катунью; его описание исполнено в стилистике романтических живописных пейзажей Г.И. Чорос-Гуркина: «Мне хочется, чтобы вышли из каменных хребтов окаменелые витязи Алтая, чтоб синие венцы вспыхнули на вершинах гор. Чтобы шаман загрохотал в бубен и осатанело закружился весь красный у кровавого огня…» [28. С. 436]).
Позднее в автобиографии В.Я. Шишков писал: «Рабочий период 1910 года я заведовал партией по исследованию реки Бии на Алтае… Работа была чрезвычайно опасная – Бия бушевала в своих многочисленных порогах, – но весь риск окупился впечатлениями: познакомился с бытом кержаков-староверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма: шаманы (Камы) во время моления в глухих и горных ущельях приносили кровавые жертвы подземному богу Эрлику, жертвенной лошади привязывали к каждой ноге по аркану, и четыре группы алтайцев, вцепившись в концы арканов, раздирали её живьем. Кам ударом ножа извлекал жертвенную кровь из её живого сердца. Визг лошади, оранье толпы, громовой грохот аршинного бубна, игра ночных костров во тьме…» [23. С. 19].
Шаманы воспринимаются Шишковым как обязательный атрибут Горного Алтая, писатель сам начинает мыслить пантеистически: «В очень красивых местах живу, радуюсь и молюсь природе. От близости дивных красот душа чище становится, умягчается сердце, хочется добрым быть» [21. С. 294]. Его романтически воспринимаемый Алтай (в отличие от воспринимаемого реально [27]) – источник радости и счастья: «Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь моя растет, и не знаю, чем я возмещу Алтаю ту радость и счастье, которым он меня наделяет каждый день, каждую минуту. Если бы я был поэтом, я воспел бы его, я бесконечно стал бы прославлять его красу и мощь» [21. С. 293].
Замысел «Страшного кама» В.Я. Шишкова
Замысел художественного произведения об алтайских шаманах возник у В.Я. Шишкова летом 1913 г.: «За лето должен написать один большой рассказ. Не знаю какой: либо из Алтайской жизни: «Страшный кам», либо из жизни Тунгусской» [21. С. 293]. Замысел вынашивался очень долго, за это время страна сменила и свое название, и общественный строй, но удачно найденное название «Страшный кам» у Шишкова как нельзя более точно подошло к новым социально-историческим реалиям. В первом отдельном издании (как и в предшествовавшей ему журнальной публикации) повесть «Страшный кам» имела жанровое обозначение «повесть шаманья, алтайская» [39]. Тексту было предпослано посвящение – «Светлой памяти Григория Николаевич Потанина посвящает благодарный автор». «Шаманьей» повесть делает центральный персонаж – кам Чалбак («кам – шаман, жрец, представитель культа шаманизма» [28. С. 156]), «алтайской» – описания высокогорья, алтаизмы, продублированные переводом (эзень – приветствие, козел – яман, юрта – аланчик и т.п.), этнографически точное воспроизведение фрагментов мистерий алтайских шаманов, в основу которого, безусловно, положены работы Г.Н. Потанина и его учеников (самое подробное описание родословия, ритуала и запись текстов алтайских шаманов произведены А. В. Анохиным в 1910-1912 гг. [10]). В духе Н.М. Ядринцева [29] сделаны несколько упоминаний о калмыках и теленгитах, содержащие областническую оценку характеров сибирских инородцев (робки, незлобивы, «наивны как младенцы»), об отношении к ним миссионеров, например, рассказ Чалбака о причинах его крещения. Л.П. Якимова, акцентируя внимание на идеологемах советской эпохи в текстах Шишкова, писала о доминировании в повести темы беспросветного существования туземцев и пафоса разоблачения «политики насильственного приобщения малых народов к христианству» [30. С. 17].
Сюжет повести Шишкова
Сюжет повести был намечен Шишковым в 1913 г. в четвертой части путевых очерков «По Чуйскому тракту», названной «Страшный кам»: выезжая из селения Муюта - «преддверия орды», т.е. пересекая границу «своего» и «чужого», русского и алтайского миров, ямщик рассказывает путешественнику про «страшного», но справедливого крещеного кама, живущего неподалеку. Кам не оставил своих занятий, и «строгий» священник велел его проучить (отметим, что Муютинский стан был одним из старейших в Алтайской миссии - открыт в 1845 г. [31. С. 193]; во времена, описываемые рассказчиком–ямщиком, т.е. ок. 1880 г., в нем трудилась семья священников Постниковых). Русские мужики побили кама, и тот им пригрозил; вымерли семьи двух избивавших, а третий повинился перед камом и жив остался. С тех пор бубен шаманский ночами стучит в селе сам собою, предсказывая смерть – «просто страх». А кам до сих пор камлает – «Ему нельзя без этого. Его тогда шайтаны задушат. Их много. Они работы себе требуют. Этот кам самый настоящий, страшный. Его весь Алтай боится. А зла он никому не делает. Все узнает. Болезнь прогоняет» [32]. Этнографическая точность этой фразы ямщика проявляется, прежде всего, в использовании канонической формулы «духи предков давят» – так алтайцы выражали появление у человека признаков шаманского призвания [33. С. 67].
Страх как ключевой мотив «Страшный кам»
В рассказе ямщика звучит ключевое слово повести – «страх». В данном случае страх – естественная психологическая реакция русского на образ «другого», о чем ранее писал Н.М. Ядринцев: «Перед выступающими горами при лунном свете, в фантастическом костюме <…> шаман выбегает из юрты, бьет в бубен, кружится и в дикой экзальтации делает предсказание. Это впечатление среди глухой ночи бывает до такой степени потрясающим для простого ума, верящего в сношения с дьяволом, что наводит страх на присутствующих русских крестьян, как они нам свидетельствовали» [34. С. 20]. Следует добавить, что в воспоминаниях самого Ядринцева о том самом ночном камлании (всплывающих в ситуации встречи с экзотическими для столицы алтайцами в Петербурге) отчетливо прослеживается позиция интеллектуала-романтика: «Помню его (шамана. – Т.П.) потрясающие вопли, призывание, дикое эхо гор, отвечавшее этим заклинаниям, и таинственную прекрасную ночь над величественными горами, полными дикой прелести» [29. С. 628].
Открывающий повесть горный пейзаж лишен реалистичности, в нем усматривается мозаика из образов живописных полотен Чорос-Гуркина (излюбленный Гуркиным маральник - кустарник, цветущий ранней весной, местное название рододендрона Ледебура, Rhododendron ledebourii Pojark) и поразившие Н.М. Ядринцева мальвы [35. С. 41], цветущие в разгар лета. «Ранний летний час. Лучи солнца лишь на вершинах гор, долины – в предутренней сизой дымке. Но розовый рассвет все ниже ползет с вершин по склонам, золотит на своем пути и зеленый куст черемухи, и цветущий маральник, и украшенные крупными цветами мальвы <…> Люди в долине шевелятся – закурились берестяные юрты серым дымом, проснулся народ в селе. Калмыки, теленгиты, русские, еще помесь русских с теленгитами – береза да черемуха» [28. С. 10].
Эта мирная картина не предвещает обозначенной в названии повести семантики страха - предвестника эпохи великого террора. Эта семантика развивается в тексте параллельно с развитием мотива жертвоприношения (но не в языческой, как того можно было ожидать от «повести шаманьей, алтайской», а в библейской трактовке), сливаясь с семантикой нечистоты/неправедности/черноты мира людей. Ей противостоит гармония, чистота, естественность и снежная белизна мира алтайских гор, которому принадлежит кам: «Горы! Горы! С семи концов пришли сюда, семь ветров загородили. Млеют под солнцем в зеленых своих цветных уборах. По их подолу и дальше в высь бегут лиственницы, сосны, как снег блестит обнаженный на ребрах известняк, рудой кровью кровянеют красноцветные песчаники. Розовые нежные кусты маральника перепутались с темной зеленью вереска и елей. Ярко-желтые цветистые ковры раскинулись то здесь, то там. О пики выступов и скал чешет гриву водопад с горы – радуга, алмазы, серебро. Только ущелья мрачны – в них тьма, в них леший! – и по балкам серый камень-курум ползет» [28. С. 21–22].
Особенности алтайского представления кама
Местом действия в повести становятся высокогорные русско-алтайские селения Глызеть (в этом топониме можно усмотреть семантику нерешительности – от «глыбаться» – колебаться и семантику нечистот – от «глызы» - навоз, помет [36. С. 359]) и Волчиха. Пещеру шамана отделяет от селения река Анчибал (от анчибел – нечистый дух). Вымышленные названия населенных пунктов усиливают звучание в повести мотивов раздвоения и непонимания, актуализирующихся в эпоху создания. Шаман, единственный умный человек в этом «оглазевшем» мире («Умное безбородое лицо его грустно. Черные узкие глаза потухли. Печаль в глазах» [28. С. 63]), верит в христианского бога, но физически не может не камлать. Его место в художественном пространстве – между небом и землей, как и предначертано шаману в его экстатических полетах (добавим, что шаманскую алтайскую экзотику на фоне достижений советской авиации в Сибири в ту эпоху описал В. А. Итин [37]), в пещере, охраняемой рекой, своеобразным магическим кругом, делящей мир на «чистых» и «нечистых».
Образ кама у Шишкова, вопреки идеологической установке «служитель культа - враг, беспощадно эксплуатирующий бедняков», создан на основе традиционных алтайских представлений – он беден, бескорыстен, что особо подчеркивал в свое время Стефан Ландышев [18. С. 27]; помимо того, он бесконечно терпелив в своих упованиях на высшие силы. Оставленный властями (священником и урядником) на растерзание разъяренной толпы, кам гибнет в водах Анчибала, превращаясь в видениях блаженной старушонки Федосьи в Христа, идущего на Голгофу. Внук Федосьи подпасок Ерема понес по Чуйскому тракту «до монгольского Кобдо-города, до Улясутая» славу про страшного кама Чалбака.
Но даже в самых страшных снах не могло присниться все то, что случилось в селении после убийства кама. Практически вымер род крепких мужиков Брюхановых, исчезла радость в некогда богатой округе, в страхе ждущей, где же снова заговорит шаманский бубен; человек человеку стал волком… И только один человек благополучен ныне в Волчихе – Еремей Терентьич Дятлов (Ерема). Иллюстрация советского лозунга «Кто был никем – тот станет всем» завершает повесть «шаманью, алтайскую». Выбор имени для этого персонажа отсылает к известному смеховому произведению – «Повести о Фоме и Ереме», уводя в подтекст наряду с мыслью о тотальном страхе мысль о тотальной безнадежности [24. С. 193–194]. При рассмотрении текста в таком ключе можно заметить, что страха не имеют только два персонажа повести Шишкова – шаман и блаженная старушонка, два человека не утратили духовности: шаман её хранит связью с традицией (с душами предков, предопределяющими все его поступки), Федосья – чистой верой. Таким образом, их непонимание остраняет страшный мир Волчихи, не экзотизируя, а типизируя его как явление раннесоветской эпохи (повесть была завершена в Петрограде в 1919 г.).
Идеологическая составляющая повести
Микшируя эту мысль, автор в предисловии к отдельному изданию дал требуемую национальной политикой того времени идеологическую преамбулу: «…Автор великолепно знаком с той беспощадной, не имеющей пределов, эксплуатацией, которой в прошлом, при царском самодержавии, подвергались так называемые «инородцы». В результате - поголовная безграмотность такого даровитого народа, как тунгусы или алтайцы, пьянство, дикость, вымирание <…> В данное время, при Советской власти, эксплуатация малых народностей торгашами в корне пресекается <…> Прокладываются пути сообщения. Дикий первобытный уклад жизни постепенно уходит в прошлое» [27. С. 7]. А эпиграф, соответствующий формуле национальной политики «угнетенные народы востока» – «Будет ли так, чтоб в пуповину нашу грязь не попадала? Будет ли так, чтоб на ресницах наших не было слез? (из молитвы алтайцев)» подтолкнул критику к благожелательному отзыву о повести. Произведение было отнесено к явлениям краевой художественной литературы, для которых в то время обязательными считались «такой пейзаж, развитие действия, размещение персонажей, мотивировка и обоснование внутренней логики событий, которые возможны исключительно в данной социально-экономической и географической обстановке» [21. С. 70]. Было признано, что на краевом материале (редкостное явление для той поры) писатель достиг общенациональных высот, борясь с великодержавным шовинизмом и протестуя против колониального взгляда на Сибирь. При этом довольно миролюбиво отмечалось, что писателю не хватало «революционной энергии», он «не умел сделать политических выводов из всего наблюденного», что поднятая им тема требовала «гневный голос писателя-трибуна, стоящего на последовательно революционных позициях, ясно понимающего истоки и классовую природу национального угнетения» [21. С. 78]. Высоко оценивая художественные достоинства произведений Шишкова, созданных на сибирском материале, Майзель все же главную заслугу писателя размещал в идеологической плоскости – по его мнению, Шишков писал о туземцах, демонстрируя «всю глубину неустройства дореволюционной России» [21. С. 78].
Заключение
Повесть «Страшный кам» – не о сибирских туземцах, а о современной писателю России, погружающейся в тьму неверия. Замкнутая модель горного пространства манифестирует в ней мысль о «своем», исконном, у которого уже нет сил для борьбы с «чужим». В традиционных представлениях коренных этносов Алтай – это прежде всего гиперболическое обозначение собственной территории, он пространственно шире, чем вся земля, слово алтай может использоваться в нарицательном значении и как название родовых мест, и как обозначение бытия в целом [38. С. 282–286]. Ставя в основу концептосферы повести веру/неверие, Шишков обращается к онтологической проблематике, тем самым отрицая политику деления советских народов и народностей на «передовых» и «отсталых», на «диких» и «просвещенных», на «западных» и восточных» - он настаивает на слиянии человека с родной землей.
Пантеистическое же слияние В. Я. Шишкова с природой Горного Алтая особенно остро ощутил В. Распутин, тщетно, по собственному выражению, искавший слова для описания величественной красоты Горного Алтая. Стоя у памятника В. Шишкову на Чуйском тракте в окрестностях с. Манжерок (скульптор П. Миронов; памятник установлен в 1973 г.), он заметил, что скромный барельеф слился с окружающим пространством, «стал такой же принадлежностью Катуни, как острова, дикие камни и деревья, как до того проложенная людьми дорога – будто был тут всегда» и сделал афористический вывод: «Земля должна знать своих поэтов и устроителей, тогда она будет знать и свое достоинство» [5. С. 155].
Т.П. Шастина
Список литературы
- Сибирский текст в русской культуре: Сб. ст. / Ред.-сост. А.П. Казаркин. Томск: Сибирика, 2002. 270 с.
- Сибирский текст в русской культуре. Сб. ст. / Под ред. А.П. Казаркина, Н.В. Серебреникова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. Вып.2. 276 с.
- Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания: Коллективная монография / Сост., научн.ред. А.П. Казаркин. Томск: АНО «Издательство «Сибирика», 2003. 216 с.
- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
- Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: Коллективная монография / отв. ред. К.В. Анисимов. Красноярск, 2010. 237 с.
- Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 304 с.
- Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Авториз. пер. с англ. О. Леонтьевой. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с.
- Галимова Е.Ш. Специфика северного текста русской литературы как локального сверхтекста // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1. С. 121–129.
- Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. Пермь: Изд-во пермского ун-та, 2000. 404 с.
- Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю в 1910–1912 гг. по поручению Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии / Предисл. С.Е. Малова. Л.: Изд-во Российской Академии Наук, 1924. 152 с.
- История литературы Урала. Конец XIV XVIII в. / гл. ред. В.В. Блажес. Е.К. Созина. М.: Языки славянской культуры, 2012. 608 с.
- Образ Алтая в русской литературе XIX –XX вв. Антология: в 5 т. / Под общ. ред. А.И. Куляпина. Барнаул: ООО «Издательский дом «Барнаул», 2012.
- Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XIX веков. В 3 т. Барнаул: А.Р.Т., 2005–2009.
- Ландышев Стефан, протоиерей. Алтайская духовная миссия. М., 1864. 22 с.
- Екеев Н.В. К проблеме образования алтайского этноса // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2013. № 5. С. 146–151.
- Вербицкий В.И., протоиерей. Алтайские инородцы: Сб. этнографических статей и исследований / Под ред. А.А. Ивановского. М., 1893. 256 с.
- Вербицкий В.И. Алтайцы // Том. губ. ведомости. 1869. № 30–33, 35, 37–42, 44–47, 49, 50; 1870. № 1–5, 7–13, 16–19.
- Ландышев Стефан, протоиерей. Космология и феогония алтайцев-язычников / Сост. епископ Макарий. Казань,1886. 31 с.
- Шастина Т.П. Горный Алтай в публицистике Н.М. Ядринцева // Сибирский филологический журнал. 2013. № 4. С. 74–82.
- Шишков В. Любителям красот и природы // Сибирская жизнь. 1910. № 158.
- Неопубликованные письма В.Я. Шишкова к Г.Н. Потанину / Подгот. Я.Р. Кошелева //Алтай. 1957. № 10. С. 291–295.
- Гребнева М.П. «Над царственной ширью Алтая…» (Образ Алтая в русской литературе начала ХХ века» // Образ Алтая в русской литературе XIX –XX вв. Антология: в 5 т. / под общ. ред. А.И. Куляпина. Барнаул: ООО «Издательский дом «Барнаул», 2012. Т. 2. С. 5–14.
- Шишков В.Я. Автобиография // Воспоминания о Вячеславе Шишкове / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1987. С. 8–27.
- Потанин Г.Н. В Чемальском тупике // Сибирская жизнь. 1910. № 141–142.
- Потанин Г.Н. Алтайский кам (по поводу сибирского вечера) // Сибирская жизнь. 1909. № 39.
- Шишков В.Я. Скала: Аллегория // Шишков В.Я. Тайга. Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1975. С. 435–440.
- Шишков В.Я. Чуйские были // Ежемесячный журнал. 1914. № 2. С. 28–37.
- Шишков В.Я. Страшный кам. Повести и рассказы. Изд 3-е. М.: Недра, 1931. 258 с.
- Ядринцев Н.М. Алтай и его инородческое царство // Исторический вестник. 1885. № 6. С. 607–644.
- Якимова Л.П. Многонациональная Сибирь в русской советской литературе. Новосибирск: Наука, 1982. 228 с.
- Крейдун Георгий, свящ. Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. 200 с.
- Шишков В.Я. По Чуйскому тракту (Путевые очерки): IV. Страшный кам // Сибирская жизнь. 1913. № 159.
- Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 320 с.
- Ядринцев Н.М. Об алтайцах и черневых татарах // Известия ИРГО. 1881. Т. 4. Отд. Оттиск. 27 с.
- Ядринцев Н.М. На обетованных землях (из путешествия по Алтаю) // Сибирский сборник. СПб., 1886. Кн. 2. С. 36–43.
- Даль В.В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 х т. М.: Русский язык, 1978. Т. 1. 699 с.
- Итин В.А. Каан-Кэрэдэ // Сибирские огни. 1926. № 1–2. С. 39–98.
- Казагачева З.С. Алтайские героические сказания «Очи-Бала», «Кан-Алтын» (Аспекты текстологии и перевода). Горно-Алтайск, 2002. 352 с.