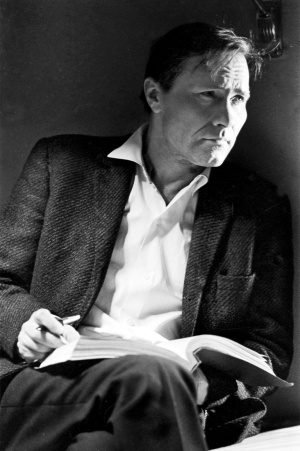Между Востоком и Западом: проблема сибирской идентичности в творчестве В.М. Шукшина
Содержание
- 1 Три решающих встречи в судьбе В.М. Шукшина
- 2 «Простой человек» в кинотворчестве В.М. Шукшина
- 3 Ранняя проза писателя: проблема сибирской идентичности
- 4 Развенчание сибирского мифа: «Случай в ресторане», «Митька Ермаков»
- 5 Поздний В. Шукшин: возврат к истокам в рассказе «Чужие»
- 6 Историософская концепция позднего Шукшина
- 7 Проблема национальной идентичности: фильм «У озера», «Беседы при ясной луне» и др.
- 8 Понятие «малая родина» в миропонимании писателя
- 9 Список литературы
Три решающих встречи в судьбе В.М. Шукшина
Встреча с Иваном Пырьевым
В легендарной биографии Шукшина, заметно отличающейся от настоящей, его сибирское происхождение сыграло решающую роль в выборе жизненного пути. Судьбоносными для будущего кинорежиссера стали три московские встречи с земляками. Первой в этом ряду была встреча с Иваном Пырьевым. Шукшин много раз рассказывал о ней друзьям и знакомым, и даже упомянул ее весной 1971 г. в разговоре с корреспондентом газеты «Московский комсомолец».
– Василий Макарович, а как Вы пришли во ВГИК? – спросил журналист. – Случайно, – ответил Шукшин. – Я переменил кучу профессий и все же никогда не думал, что буду снимать фильмы. После войны я совсем пацаном ушел из села. <…> Исколесил всю страну и как-то раз очутился в Москве. Помню, нужно было мне где-то переночевать, а денег не было. Пристроился я на скамейке на набережной. Вдруг около меня остановился какой-то человек, покурить, видно, вышел. Познакомились. Оказались земляки. Он тоже из Сибири, с Оби. Он узнал, что я с утра не ел, повел меня к себе. Допоздна мы с ним чаи гоняли и говорили, говорили...
Это был режиссер Иван Александрович Пырьев. Он мне рассказывал о кино, о жизни. Что-то у него тогда не ладилось, вот и выложился он перед незнакомым парнишкой. Когда мы встретились лет через десять, он меня и не узнал, а я этот разговор навсегда запомнил [1. Т. 8, С. 113–114].
От читателей «Московского комсомольца» Шукшин по вполне понятным причинам скрыл некоторые досадные детали происшествия, представив его почти в идиллическом свете. А вот по свидетельству В. Белова, этот свой «первый московский визит Макарыч не мог вспоминать без горечи» [2. С. 119]. Своему другу Шукшин поведал совсем другую историю: «Пырьев тоже с бабой скандалил. Зверь-баба, выгнала нас обоих, когда я по-сибирски затесался в квартиру. До сих пор стыдно... Я-то думал, что уж Пырьев-то... А им тоже жена командовала» [2. С. 152].
Трудно сказать, была ли эта встреча? Никаких объективных свидетельств о ней нет. Сомнения усиливаются еще и из-за того, что Шукшин рассказывал о своем знакомстве с Пырьевым всякий раз по-новому. Однако полностью игнорировать так настойчиво воспроизводимый Шукшиным сюжет нельзя. Пожалуй, прав А. Варламов, считающий, что встреча с земляком все же была (по его версии – в 1949 г.), Шукшин о ней не забыл, и «…в нужный момент воспоминание выстрелило, направило его во ВГИК на режиссерский факультет, и в этом смысле не Михаил Ильич Ромм, а Иван Александрович Пырьев стал самым первым шукшинским искусителем…» [3. С. 90]. Во всяком случае, с точки зрения самого Шукшина, дело обстояло именно так.
Встреча с Евгением Евтушенко
Вторым сибиряком, определившим путь Шукшина в мир кино, был, согласно легенде, Е. Евтушенко. Во дворе Литинститута, куда Шукшин летом 1954 г. пришел подавать документы, к нему, якобы, «…подошел молодой Евгений Евтушенко, чья поэтическая звезда уже начинала всходить и чья эстрадная популярность была уже не за горами (Шукшин, разумеется, о Евтушенко-поэте ничего тогда не слыхал, он для него был студент Литинститута из “земляков-сибиряков”).
Молодой Евтушенко разговорился с “простым парнем”, внимательно оглядел нелепый – полусолдатский-полуматросский, составленный частью из собственной форменной одежды и военной, неплохо сохранившейся в нафталине (или дусте?) на дне сундука одежды деда – наряд Шукшина и полусерьезно-полушутя изрек: “Иди-ка ты, паря, во ВГИК, на режиссерский. Там сейчас борются с формалистами и космополитами, там такие, как ты, “рабочекрестьяне”, нужны…”. А Шукшин, как он рассказывал потом Ю. Скопу, прикинулся сермягой – не знаю-де и не ведаю, что это и за институт-то такой, что за профессия такая – режиссер, – и расспросил у “земели” некоторые подробности, а потом тут же поехал в неведомый вуз подавать документы» [4. С. 76].
Относительно реальности этой встречи сомнений еще больше, но что характерно – ни Шукшин, ни Евтушенко слухи о ней никогда не пытались опровергнуть, и тот, и другой сделали эту историю частью своего биографического мифа. С этим, бесспорно, надо считаться.
Встреча с Николаем Охлопковым
Председателем комиссии на вступительных экзаменах Шукшина во ВГИК был еще один его земляк – Николай Охлопков. Он предложил абитуриенту разыграть, вроде бы, совсем несложный для настоящего сибиряка этюд, с которым Шукшин, тем не менее, не справился.
«И, конечно, не забуду, как на собеседовании во ВГИКе меня Охлопков – сам! – прикупил... – поделился Шукшин с Ю. Скопом. – Я приехал в Москву в солдатском, сермяк сермяком... Вышел к столу, сел. Ромм о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот, после, говорит: “Ну, земляк, расскажи-ка, пожалуйста, как ведут себя сибиряки в сильный мороз?” Я это напрягся, представил себе холод и ежиться начал, уши трепать, ногами постукивать... А Охлопков говорит: “А еще”. Больше я, сколь ни думал, ничего не придумал. Тогда он мне намекнул про нос, когда морозно, ноздри слипаются, ну и трешь нос-то рукавичкой... “Да, – говорит Охлопков, – забыл…”». А затем последовал откровенно издевательский вопрос: «Слышь, земляк, а где сейчас Виссарион Григорьевич Белинский работает? В Москве или Ленинграде?» [5. С. 91–92].
Помощь от земляков приходит к Шукшину всегда с каким-то подвохом, поэтому, чувство горечи могла оставить каждая из упомянутых встреч. Несмотря на это, понятие «земляк» для Шукшина – одно из самых дорогих. Не зря почти все его герои – сибиряки. Е. Громов в статье о проблеме национального характера в творчестве Шукшина заметил: «Большинство шукшинских героев носят, по образному выражению Сергея Залыгина, кирзовые сапоги, они либо живут в родном селе Шукшина Сростки и соседних деревнях, либо родом оттуда, либо как-то еще связаны с Алтаем, Сибирью» [6. С. 18].
Любая встреча с земляком для Шукшина – радостное событие. Многим мемуаристам запомнились такие эпизоды. Александр Саранцев вспоминает, как познакомился с Шукшиным в коридорах ВГИКа: «Видели бы вы, как он обрадовался, когда услышал, что я тоже с Алтая! Это ж на самом деле редкость – встретить земляка во ВГИКе! Все равно что родного человека встретишь» [7. С. 108].
Весной 1974 г. Шукшин подарил М. Ульянову сборник своих рассказов с неожиданно теплой, удивившей актера надписью: «Михаилу Ульянову – земляку, коллеге, художнику – с дружбою. В. Шукшин». Показательно, что в отличие от Шукшина, трактующего понятие «земляк» расширительно, Ульянов высказывается по этому поводу гораздо осторожнее: «…очевидно, такая у него была светлая минута, так ему было хорошо, что он и в самом деле расщедрился. Что же касается землячества, упомянутого им, то оно у нас довольно относительное – только сибирское: я – из Омска, Василий Макарович – с Алтая» [8. С. 313]. «Светлая минута», о которой говорит Ульянов, – общение с земляком, пусть и «относительным».
«Простой человек» в кинотворчестве В.М. Шукшина
На собеседовании с Н. Охлопковым и М. Роммом Шукшин роль сибиряка провалил, и урок оказался не впрок. В дальнейшем он в этом образе был тоже не всегда убедителен – как в жизни, так и на экране. Амплуа «простого человека», «представителя народа» стало для Шукшина-киноактера едва ли не главным, при этом, по авторитетному мнению Неи Зоркой: «Ему не надо ни грима, нет нужды обживать костюм. Поднятые в метель уши меховой шапки, движение, каким закуривает папиросу на ветру в сочетании с его, шукшинским материалом, – и на экране сибиряк рабочий». «Однако, – продолжает киновед, – достоверность – это первое показание и условие кинематографического таланта – само по себе еще не дает экранных характеров. Их и нет в тех ролях, где Шукшин оставался на типажном уровне» [9. С. 147, 148].
Сокурсник Шукшина по ВГИКу Александр Гордон, не без иронии, назвал Шукшина «сибирским медведем»: «Роста Василий был среднего, даже чуть ниже – хотя и “сибирский медведь”, но на богатыря не походил. Здоровье и в институте было уже неважное, болел язвой желудка» [10. С. 50]. Кавычками А. Гордон подчеркнул ироническое отношение к попытке Шукшина в повседневной жизни следовать киноштампам. Роль «сибирского медведя» вне экранного времени Шукшину явно не по плечу.
Ранняя проза писателя: проблема сибирской идентичности
На раннем этане творчества проблема сибирской идентичности Шукшиным не была решена. Он – во власти самых избитых шаблонов. Стереотип номер один, над которым и иронизирует А. Гордон: сибиряк должен быть «звероватый». Даже М. Горький в «Рассказе о безответной любви» (1923) не удержался от этого определения: «…в Томске, началась для меня иная жизнь, хуже или лучше – не могу сказать. Народ в Сибири грубый, звероватый, но Лариса Антоновна хорошо играла там Нору и очень понравилась молодежи. Обложили ее сибиряки, сидят вокруг медведями, чавкают и ее жуют глазами» [11. С. 294].
Суммируя особенности восприятия Сибири и сибиряков в культуре 1960-х гг., П. Вайль и А. Генис отметили:
«Все в Сибири должно было соответствовать ее размерам – тайга, реки, медведи, даже сибирская язва. И, конечно, люди.
При слове “сибиряк” представляется человеческая особь, снабженная избыточным ростом, весом, напором» [12. С. 81].
Весьма активно образ «звероватого» сибиряка эксплуатировался авторами, так называемых, сибирских романов. На зависимость от их поэтики ранней прозы Шукшина обратили внимание еще при жизни писателя И. Соловьева и В. Шитова: «Когда читаешь роман “Любавины”, кажется: Шукшин писал эту вещь по образцу всем знакомого “сибирского романа”, сибирского романа вообще, где все кряжистые и звероватые и все кругом закуржавело» [13. С. 246].
Роман «Любавины»
Критики несколько утрируют промахи автора «Любавиных» (1965), но в целом тенденция подмечена верно. Шукшинские персонажи, действительно, «звероватые». Егор Любавин ходит, «нагнув голову, мрачный, как зверь какой-то» [1. Т. 2, С. 166]. В его лице «что-то до боли привлекательное: что-то сильное, зверское и мягкое, поразительно нежное – вместе» [1. Т. 2, С. 8]. Эту деталь Шукшин сочтет настолько важной, что повторит ее еще раз: «…лицо до боли красивое – нежное и зверское» [1. Т. 2, С. 191]. Не менее очевидна бестиальность Макара Любавина. На свадьбе Егора он, налив себе целый ковш самогона, «осушил его и заревел: – О-о-о!..» [1. Т. 2, С. 101]. Символично, что перед этим Макар обращается к гостям: «…зверье!» [1. Т. 2, С. 101]. Это обозначение применимо ко всем бакланцам. «Потихоньку зверели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда… размахнулась, поперла через край дурная силушка», – так проходит в Баклани обычный праздник [1. Т. 2, С. 167].
По избитому трафарету нарисован в романе и образ «положительного» Николая Колокольникова: «…широкоплечий, кряжистый мужчина с красным обветренным лицом…» [1. Т. 2, С. 15]. Принципиальное значение для шукшинской концепции имеет сцена посещения бани, где возникает четкая оппозиция между коренным сибиряком и приезжими «из-под Москвы» большевиками:
«На полке заработал веником Николай. В полутьме мелькало его медно-красное тело; он кряхтел, стонал, тихонько матерился от удовольствия… Полок ходуном ходил, доски гнулись под его шестипудовой тяжестью. Веник разгулялся вовсю. С полка валил каленый березовый дух.
Кузьма лег плашмя на пол, но и там его доставало, – казалось, на голове трещат волосы. Худой, белый, со слабой грудью, Платоныч отполз к двери, открыл ее и дышал через щель» [1. Т. 2, С. 16].
Сибиряки превосходят обитателей европейской части России телесной мощью. В Баклани – каждый богатырь, шестипудовый Николай Колокольников на фоне Феди Байкалова или Гриньки Малюгина выглядит чуть ли не слабосильным.
Как видно, сибирские супермены Шукшина скроены по известным беллетристическим образцам – тем настойчивей писатель отрицает их литературную генеалогию. Во второй части романа появляется эпизодический персонаж – городская учительница, необходимая автору для того, чтобы подчеркнуть наивность книжных представлений о Сибири и сибиряках. В Баклань Галина Петровна, едет под впечатлением от северных рассказов Д. Лондона: «Девушка говорила без умолку. Про Сибирь, про счастье, про Джека Лондона… Кузьма скоро устал от ее трескотни <…>» [1. Т. 2, С. 171]. Впервые увидев Егора Любавина, Галина Петровна некстати сравнивает его с гоголевским Андрием:
– Вы похожи... знаете, на кого? На Андрия. – На какого Андрея? – На Андрия. Из “Тараса Бульбы”. Только характер у вас, наверно, не такой. Почему вы такой мрачный? “Балаболка какая-то”, – подумал Егор и ничего не сказал» [1. Т. 2, С. 184].
Неожиданная, хотя по-своему и небезынтересная, параллель между Егором Любавиным и Андрием должна, по мысли писателя, обнажить лживость насквозь книжного мировоззрения городской учительницы, что, однако, не снимает вопроса о вторичности шукшинского персонажа.
Кинематографические источники романа «Любавины»
Наряду с несколькими литературными источниками Шукшин использует и кинематографические. Наиболее органичный для романа «Любавины» контекст – вестерн, ведь в его основе тот же конфликт, что в произведении Шукшина: «неизбежная, но от этого не менее страшная трагедия: столкновение двух цивилизаций, двух уровней материальной культуры» [14. С. 16].
Сибирский и американский фронтиры привлекали людей «сходной закваски» [15. С. 77], поэтому уподобление героев шукшинского романа киноковбоям не менее продуктивно, чем соотнесение их с гоголевскими казаками XV века. Так, формула: «…повинуясь судьбе, ковбой не повинуется государственным законам…» [16. С. 31], – вполне приложима к главным героям «Любавиных».
Немецкий психолог Э. Кречмер в начале 1920-х гг. на строго научной основе установил «корреляции между строением тела и психикой» [17. С. 428]. В художественной антропологии Шукшина телосложение тоже во многом определяет склад личности.
Телесная мощь и звероватость шукшинских сибиряков выливается в индивидуализм и стихийную тягу к неограниченной свободе, перерастающей в своеволие. Конфликт первого романа Шукшина построен на столкновении посланцев новой власти с не признающими никакой власти вообще Любавиными. Кредо семьи, да, пожалуй, и большинства бакланцев, хорошо формулирует Макар Любавин: «Им <…> надо ноги на шее завязывать, этим властям всяким» [1. Т. 2, С. 12].
Необычно решена в романе сцена мести Егора Любавина Яше Горячему за убийство брата. Шукшин здесь почти в точности следует вестерновским канонам:
Егор остановился шагах в трех от Яши. Снял рукавицы… Странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял одну бровь. Ружье у него было за спиной. У Егора на плече. Он воткнул палки слева от себя…. – Что, Яша?.. – Егор опять не то улыбнулся, не то сморщился. – Погань ты такая, ублюдок… Яша побледнел. Мгновение смотрели друг на друга… Одновременно рванулись к ружьям… Грянул одинокий выстрел. С Яши слетела шапка, точно невидимая рука сорвала ее и откинула далеко в сторону <…> [1. Т. 2, С. 192].
Перед нами не столько убийство, сколько поединок, основанный на специфическом представлении о чести. В ковбойской дуэли главное – умение первым выхватить кольт, то же и у Шукшина (с естественной заменой револьверов ружьями). Крупные мастера жанра, такие как Серджио Леоне, привносят в кульминационные сцены вестерна исключительное напряжение. Прежде чем выстрелить, герой и злодей пристально вглядывается в глаза друг другу – важно выиграть сначала дуэль нравственно-психологическую. Автор «Любавиных» также психологизирует эпизод противостояния персонажей романа, придавая значение мельчайшим жестам: странной улыбке, чуть заметно приподнятой брови и пр.
Развенчание сибирского мифа: «Случай в ресторане», «Митька Ермаков»
Шукшин довольно быстро прошел этап ученичества. Во второй половине шестидесятых годов стереотип сибиряка, некритично воспринятый им от предшественников, уже подвергнут им пародийной деконструкции. В «огромном» и «могучем» Семене «маленький старичок» из рассказа «Случай в ресторане» (1967) мгновенно опознает сибиряка:
– Сибиряк? – С Урала. – Похожи… – Старичок улыбнулся. – Когда-то бывал в Сибири, видел… – Где? – Во Владивостоке. – А-а. Не доводилось там бывать [1. Т. 3, С. 71–72].
Разброс географических координат – Урал и Владивосток – слишком велик, и только такое грандиозное понятие как Сибирь позволяет соединить эти отдаленные точки пространства.
Старичок переименует своего случайного знакомого – будет упорно звать его Ваней. А на поправку: «Меня Семеном зовут», – небрежно бросит: «Все равно» [1. Т. 3, С. 74]. Актом переименования, также как подменой пространственной локализации он подгоняет Семена под клишированный образ сибиряка, – и тогда уже несущественна разница между Уралом и Владивостоком, а «Ваня» превращается в универсальное имя для всех «огромных» и «могучих». Под напором старичка бригадир лесорубов подчинится стереотипу: откажется на время от своего имени; забудет, что он с Урала, и станет говорить о грядущем отъезде в Сибирь; будет вести себя «по-сибирски».
Шаржированно Шукшин вводит в рассказ метафору «звероватости» сибиряка, создавая своего рода автопародию на сцену свадьбы Егора в романе «Любавины». Вначале старичок уговаривает Семена «рявкнуть»:
– Ну-ка рявкни, – попросил старичок. – Зачем? – Я послушаю. Рявкни. – Нас же выведут отсюда – Та-а… Плевать! Рявкни по-медвежьи, я прошу. Детина поставил фужер, набрал воздуху и рявкнул. Танцующие остановились, со всех столиков обернулись к ним. Старичок влюбленно смотрел на парня [1. Т. 3, С. 74. А позже – прямо назовет его «зверем»: «Ах, Ваня, Ваня… зверь ты мой милый… Как рявкнул! Орел!.. [1. Т. 3, С. 76].
Сюжетная ситуация «сибиряк в столице» предполагает почти автоматическое появление мотива дикого кутежа. Этот штамп воспроизводит в своем беллетризованном рассказе о «недоразумении на перроне» Соколов из шукшинской повести для театра «А поутру они проснулись…»: «Провожал, знаете, друга… У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку… ну, погуляли малость: давно не виделись, а у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки: наскучают там, приезжают и давай ферверки пускать. Кошмар! Я уж говорю: “Коля, тормози, я не выдюжу”, он только рукой машет» [1. Т. 7, С. 250]. В рассказе «Случай в ресторане» стандартный сюжет обращен за счет того, что инициатором пьяного разгула здесь выступает не уральский лесоруб Семен, как можно было ожидать, а бывший учитель рисования: он кричит, разбивает рюмку об пол, требует выломать дверь в номер и т. п.
Комично выглядит стремление соответствовать хрестоматийным представлениям о сибиряке героя другого рассказа – «Митька Ермаков» (1970). В этом рассказе возникает коллизия, немного напоминающая ту, что была в романе «Любавины», хотя она и вывернута наизнанку. Шукшин сталкивает в рассказе коренного сибиряка Митьку Ермакова с чужаками-очкариками. Митька разделяет распространенное предубеждение относительно интеллигенции:
Очкарики… Все образованные, прочитали уйму книг… О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого – в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде. Вот в этом – что очки дольше держаться на воде, чем сам очкарик, – никогда в своей жизни не сомневался Митька Ермаков [1. Т. 5, С. 79–80].
На берегу Байкала Митька очень театрально собирается продемонстрировать превосходство настоящего сибиряка над заезжими туристами, но все заканчивается для него конфузом: едва не утонувшего, потерявшего трусы Митьку спасают из ледяной воды столь презираемые им очкарики.
Свидетели Митькиного фиаско делают далеко идущие выводы. Они сначала восхищались нырнувшим в «набежавшую волну» Митькой: «Сибиряк, – сказали на берегу. – Все нипочем» [1. Т. 5, С. 81]. Но сибирская мифология разрушилась буквально на их глазах, и теперь она вызывает насмешку: «Мне эти сильные!.. Сибиряки» [1. Т. 5, С. 82].
Поздний В. Шукшин: возврат к истокам в рассказе «Чужие»
Поразительно, но после достаточно последовательного развенчания сибирского мифа в произведениях второй половины шестидесятых годов, Шукшин вернется к нему на заключительном этапе творчества. Галерею шукшинских сибиряков-богатырей завершает бывший матрос дядя Емельян из рассказа «Чужие» (1974), занимающего в наследии Шукшина особое место, – это последний рассказ писателя. В черновых набросках к рассказу дядя Емельян назван богатырем открыто: «Богатырь. Лоцман. Не знает, куда девать силу» [1. Т. 7, С. 302]. Шукшин практически дословно, хотя, скорее всего, невольно, процитировал в рабочей тетради фразу со страниц хорошо известной ему книги Чехова «Из Сибири»: «Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость» [18. С. 35].
Подобно В. Распутину, Шукшин, безусловно, верил в «избранничество Сибири, как пуповины земли, где сходятся противоположности» [19. С. 371]. Впрочем, по Шукшину и вся Россия – место сшибки противоположностей. В рассказе «Чужие» у дяди Емельяна есть антагонист – великий князь Алексей. На контрасте этих персонажей держится композиция этого произведения. «Вот уж чужие так чужие – на веки вечные. Велика матушка-Русь!» – восклицает в самом конце автор-рассказчик [1. Т. 7, С. 114]. Но все-таки для него алтайский пастух и член царской фамилии – «две русские души», «дети одного народа» [1. Т. 7, С. 114]. «Глава и хозяин русского флота» князь Алексей, как и простой матрос, тоже, чрезмерен в растранжиривании своих неистощимых сил, тоже не знает, куда их приложить.
Историософская концепция позднего Шукшина
Схематизация фигуры сибиряка в рассказе «Чужие» связана с авторской установкой на публицистичность. В большинстве других поздних произведениях Шукшина проблема сибирской идентичности решена тоньше. Типизирует, избегая схематизации, образ сибиряка писатель в рассказе «Жена мужа в Париж провожала…» (1971). Колька Паратов – «обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город» [1. Т. 5, С. 210]. В середине рассказа Шукшин еще раз повторит главное: сибирские – значит «крепкие, способные вынести много» [1. Т 5, С. 212].
Экскурс в историю Великой Отечественной войны вовсе не лишний, он понадобился автору для того, чтобы акцентировать амбивалентность отношений между Сибирью и столицей. Колька Паратов, внешне так похожий на защитников Москвы 1941 г., выступает, скорее, в роли завоевателя. «Гордая» москвичка Валя оказывается «в плену» [1. Т. 5, С. 211] у сибирского солдатика. Знаковая деталь – Колька в одной из сцен немотивированно переходит на немецкий язык. На простой вопрос: «Какой размер, Коля?» – он почему-то отвечает: «Фиер цванцихъ» [1. Т. 5, С. 211]. Впрочем, покорение столицы оборачивается неволей и для самого «сибиряка-Кольки» [1. Т. 5, С. 211]. Он быстро осознает, что «сел намертво», «влип», его жизнь – «добровольная каторга» [1. Т. 5, С. 212, 215]. Они с женой «напрочь чужие друг другу люди» [1. Т. 5, С. 212], но вырваться из московского плена Кольке уже не дано.
В историософской концепции позднего Шукшина первостепенное значение имеет оппозиция Восток – Запад. «Россия между двух одинаково губительных “провокаций” (идущих с Запада и с Востока). Такова в самом общем виде мифопоэтическая модель, намеченная Шукшиным в рассказе “Танцующий Шива” и позднее развернутая в сказке “До третьих петухов”» [20. С.111]. Трагедия России даже не в том, что существует угроза внешней агрессии, как в 1812 или 1941 гг., но в том, что Россия – это переплетение Востока и Запада, причем – далекое от гармонии, чреватое внутренними конфликтами.
Имплицитно эта мысль присутствует и в рассказе «Жена мужа в Париж провожала…». Шукшин использует в тексте многочисленные детали с четкой национальной, преимущественно, западноевропейской маркированностью. Колька говорит по-немецки, ломает голос «по-тирольски», вместо «Жена мужа в поход провожала…», поет «А жена мужа в Париж провожала…» [1. Т. 5, С. 210-211]. Человека Востока в Кольке выдает, пожалуй, лишь один, но весьма существенный штрих портретной характеристики – «чуть скуластый». Общеизвестно, что сильное выступание скул – характерный признак монголоидной расы. Во внешности Шукшина этот признак тоже заметен, более того, писатель сделал его элементом собственного имиджа. Валентин Виноградов вспоминает молодого Шукшина: «Вася выглядел очень мужественно, а на его лице всегда играли скулы. “Наследие татарского ига”, – шутил он по этому поводу. Поначалу во ВГИКе Шукшин ни с кем не разговаривал. Все всматривался пристально своими узенькими глазами» [3. С. 98].
Проблема национальной идентичности: фильм «У озера», «Беседы при ясной луне» и др.
Искусно обыграл не совсем славянскую внешность Шукшина в фильме «У озера» (1970) Сергей Герасимов. Главная героиня фильма Лена Бармина (ее роль исполняет Наталья Белохвостикова) читает в одном из эпизодов картины стихотворение Блока «Скифы». Режиссер привлек в массовку, изображающую слушателей Лены, актеров как с типично русской, так и с типично монгольской внешностью. Тем самым он, по сути, эксплицировал блоковскую идею. Чтение стихотворения Блока обрамлено двумя крупными планами Шукшина, исполняющего в фильме роль директора байкальского комбината Василия Черных. Герой Шукшина, таким образом, предстает как воплощенный евразийский синтез. Он же подводит итог обсуждения «Скифов». Блоку, по его словам, «не все удалось предугадать» в истории ХХ века. Выпрямляя блоковскую мысль, Василий Черных акцентирует антизападнический пафос «скифства»: «В Хиросиме за несколько секунд двести тысяч зажарили. Без гуннов обошлось». Актер, разумеется, не обязан разделять взгляды своего героя, но в данном случае определенная степень близости мировоззренческих позиций Василия Шукшина и Василия Черных несомненна.
Шукшин прекрасно понимал, что основная угроза национальной идентичности исходит с Запада, хотя и восточную опасность осознавал тоже. Процесс разрушения национального самосознания глубоко проанализирован им в рассказе «Беседы при ясной луне» (1972). В облике, речах, ментальности главного героя рассказа – старика Баева писатель недвусмысленно подчеркивает приметы нерусскости. Сам Баев даже выдвигает смехотворную гипотезу о своем американском происхождении: «А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тада рылись – искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий» [1. Т. 6, С. 42]. Компоненты западного менталитета, такие как гипертрофированный рационализм, соседствуют в образе старика Баева с сугубо восточными чертами: «Смета!.. – Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками – так и казалось, что он сейчас скажет: “Сево?”» [1. Т. 6, С. 38]. Баев – человек, утративший не только чувство своей национальной принадлежности, но и социальную почву. «Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса, – утверждает он. – Сроду меня не тянуло пахать или там сеять... – ни к какой крестьянской работе. <...> В огороде своем собственном копаться не люблю! Вот в конторе посиживать, это по мне...» [1. Т. 6, С. 42]. Внутреннюю непричастность Баева к русскому миру выдает его курьезное нежелание верить в существование Александра Невского, князя, выполнившего двоякую историческую задачу: «защитить границы Руси от нашествия латинского Запада и укрепить национальное самосознание внутри границ» [21. С. 323].
Понятие «малая родина» в миропонимании писателя
В художественном мире Шукшина зависимость человека от среды обитания – норма, разрыв с ней – патология. Писатель отстаивает идею «антрополокального единства» [22]. Малая родина в рамках этой парадигмы – ключевое понятие. Шукшин-режиссер ценит тех актеров, творчество которых осенил genius loci. Например, в интервью журналу «Искусство кино» («От прозы к фильму», 1971) Шукшин особо отметил, что Евгения Лебедева «как художника вывела к жизни Волга – главная российская улица» [1. Т. 8, С.125].
Аналогичных высказываний в поздних интервью писателя немало.
Когда Шукшин пишет в «Слове о “малой родине”» (1974): «И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови» [1. Т. 8, С. 56] – это не просто риторическая фигура. Шукшинские герои не произносят громких фраз, но действительно заряжаются жизненной энергией, дотронувшись до родной земли. В этом смысл жестов вернувшихся на родину из далекого путешествия Ивана Расторгуева (финал фильма «Печки-лавочки») и Чудика: «Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в другой ботинки» [1. Т. 3, С. 122]. Учитель из рассказа «Дебил» (1971) тоже мечтает «скинуть туфли, снять рубашку – и так пройтись по селу» [1. Т. 5, С. 190].
Персонажей, наделенных чертами мировосприятия самого Шукшина, можно сравнить и с древнегреческим Антеем, который «был неуязвим до тех пор, пока прикасался к матери-земле» [23. С. 83], и с его русским двойником Микулой Селяниновичем, которого другие богатыри не могут победить, «потому что “его любит мать – сыра земля”» 24. С. 261].
А.И. Куляпин
Список литературы
- Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9-ти т. Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 2014.
- Белов В. Тяжесть креста: Воспоминания о В. М. Шукшине // Наш современник. 2000. № 10. С. 106–160.
- Варламов А. Русский Гамлет. Рассказы о Шукшине // Новый мир. 2014. № 9. С. 87–114.
- Коробов В. Василий Шукшин: Вещее слово. Изд. 2-е. М.: Мол. гвардия, 2009. 418 с.
- Скоп Ю. Совсем немного о друге // Шукшинские чтения: Статьи, воспоминания, публикации. Барнаул: Алт. кн. изд., 1984. С. 84–96.
- Громов Е. Поэтика доброты // О Шукшине: Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979. С. 15–30.
- Гришаев В. Глазами друга // Шукшинские чтения: Статьи, воспоминания, публикации. Вып. 2. Барнаул: Алт. кн. изд., 1989. С. 105–119.
- Ульянов М. Сын родной земли // О Шукшине: Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979. С. 309–315.
- Зоркая Н. Актер // О Шукшине: Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979. С. 141–167.
- Гордон А. В. Не утоливший жажды: об Андрее Тарковском. М.: Вагриус, 2007. 384 с.
- Горький М. Рассказ о безответной люби // Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения: в 25-ти т. М.: Наука, 1973. Т. 17. С. 261–306.
- Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. Изд. 2-е испр. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 368 с.
- Соловьева И., Шитова В. Свои люди – сочтемся // Новый мир. 1974. № 3. С. 245–250.
- Карцева Е. Н. Вестерн. Эволюция жанра. М.: Искусство, 1976. 255 с.
- Замятина Н. Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 75–88.
- Крикунова Е. К. Мир голливудского вестерна // Артикульт. 2012. № 1(5). С. 26–36.
- Кречмер Э. Строение тела и характер. М.: Педагогика-Пресс, 1995. 608 с.
- Чехов А. П. Из Сибири // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения: в 18-ти т. М.: Наука, 1987. Т. 14–15. С. 5–38.
- Ковтун Н. В. «Деревенская проза» в зеркале утопии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 494 с.
- Куляпин А. И. Творческая эволюция В. М. Шукшина. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. 204 с.
- Вернадский Г. В. Два подвига св. Александра Невского // Евразийский временник. Книга IV. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1925. С. 318–337.
- Топоров В. Н. Эней – человек судьбы. Часть I. М.: Радикс, 1993. 208 с.
- Тахо-Годи А. А. Антей // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 1. С. 83–84.
- Петрухин В. Я. Микула Селянинович // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. С. 261.