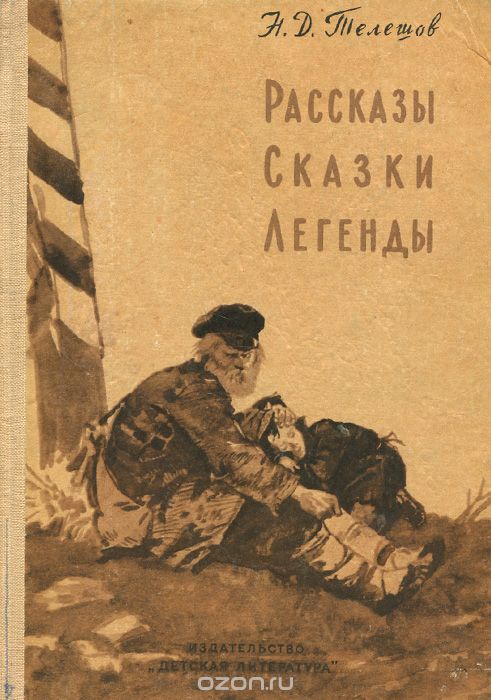Цикл рассказов Н.Д. Телешова «Переселенцы»
Содержание
Циклообразующая роль нарратива
В 1894 г. во время поездки по Западной Сибири Н.Д. Телешов изучал жизнь крестьян-переселенцев, результатом чего стало несколько рассказов, которые впоследствии были объединены им в цикл «Переселенцы». Они выстроены автором в определенную последовательность, с вытекающим отсюда наращением логики и смысла. Автор цикла, проявляющий себя в его заглавии, в композиции, слово свое передает повествователю и рассказчикам, что также определяет целостность цикла.
Нарратив в «Переселенцах», играющий важнейшую циклообразующую роль, от рассказа к рассказу наполняется многоголосым звучанием. Первые четыре рассказа – «Самоходы», «Елка Митрича», «Домой» и «Нужда» – написаны от 3-го лица. Слово повествователя о переселенцах здесь – изображающее, но и изображенное, т.е. дающее возможность читателю сформировать эстетическое отношение и к событиям, и их участникам, и к тому, кто о них рассказывает. В последних двух рассказах – «Хлеб-соль» и «Лишний рот» – образ нарратора преображается в образ героя-повествователя, голос которого в «Хлеб-соли» дополняется, к тому же, еще и голосом рассказчика, перевозчика Еремея. Таким образом, внутри цикла возникает несколько версий изложенного, вступающих в диалог, задуманный биографическим автором цикла и поддерживающий его целостность. Но независимо от того, выступает ли нарратор сторонним наблюдателем или непосредственным участником описанных событий, индивидуальность его голоса определяется сосредоточенностью на теме переселенцев, в связи с чем очень характерно название, которое автор дал циклу, закрепив «угол зрения» нарратора на объект изображения.
Хронотоп в рассказах
Рассказ, как правило, начинается с определения места и времени действия, что может быть оформлено одной фразой или, чаще всего, выливается в развернутый пейзаж. Например, рассказ «Самоходы», открывающий цикл, начинается ночной пейзажной зарисовкой:
- Закат еще не померк, над городом еще тянулись яркие цветные полосы вечерней зари, а над степью уже всходила луна; она еще не светила, не золотила степи, а только глядела ласково и скромно, обещая тихую, ясную ночь [1. C. 101].
Далее читателю описывается двор, «обнесенный серым дощатым забором, весь обросший высокой крапивой и широкими лопухами. Посреди двора стоял домик – бывший холерный барак; из окон его видна была невдалеке городская застава, а по другую сторону бесконечная степь. Здесь жили переселенцы. Одни уходили, другие приходили, и домик всегда полон народа» (C. 101). Зачином «Елки Митрича» является фраза: «Был канун рождества…» (C. 113), и из дальнейшего текста видно, что действие происходит в комнате переселенческого барака. Началом следующего рассказа «Домой» тоже становится пейзаж:
- Была ясная летняя ночь. Луна светила весело и спокойно; она заливала своим серебром поляны и дороги, пронизывала лучами леса, золотила реки… В эту самую ночь из дверей переселенческого барака, крадучись, вышел Семка (C. 122).
Своеобразным пейзажем-сравнением начинается рассказ «Нужда»:
- Как после весеннего разлива рек остаются на просыхающих лугах новые бугры песку и ила, нанесенные половодьем, так и здесь, на широком сибирском поле, после летнего движения переселенцев осталось за лесом много новых могил; как после схлынувшей воды, которая неслась по лугам и дорогам, остаются в песке и траве мелкие рыбы, запоздавшие убраться вместе с водой и обреченные биться и задыхаться в пыли под знойными лучами солнца, так и здесь после схлынувшего многотысячного народного потока осталось несколько детей, обреченных на вечное сиротство или на смерть (C. 136).
«Хлеб-соль» открывается мотивом дороги, позволяющим ввести в повествование «точечное» природоописание: почтовый тракт, проселок, «окрестные картины», «широкая, большая река», сверкающая на заходящем солнце, через которую перевозчик переправляет на своей барке переселенцев; крутой и высокий берег, «точно стена, нависшая над водою»; «пологий спуск, вроде выемки»; заброшенные церковь и кладбище, где нашли свой последний приют многие переселенцы, так и не дошедшие до места назначения.
Уже в экспозиции всех рассказов вводится их главная тема – путь переселенцев в Сибирь, их жизнь на новых местах. Достаточно прозрачно проступает позиция повествователя, единая для всех историй, в том числе и написанных от 1-го лица. Она заключается в противопоставлении прекрасной сибирской природы жуткому положению новоселов. На этом фоне показательна позиция рассказчика Еремея из «Хлеба-соли», сибиряка. Словно не замечая существующей вокруг него красоты природы, он остро чувствует бедственное положение переселенцев. Для него они – «исстрадавшиеся, измученные», бегущие «от лихой нужды, от бескормицы» люди, «голодные, холодные», «свой брат-бедняк». Именно Еремей проговаривает в полный голос важнейшую тему, связанную с рецепцией переселенческого движения в русской литературе, – «виноватой России», как определил ее Г.И. Успенский в своих «Письмах с дороги». В рассказе Телешова она трансформирована в тему греха, который ежедневно берут на душу те, кто живет рядом с этими «тысячными толпами» «тянущихся из России на новые места». Старик остро осознает не только свою вину, но и то, что его единичные добрые поступки («Иных Христа ради перевезешь. Это бывает»), так же как и объективные причины, по которым он не может выполнять свой труд бесплатно («всех невозможно Христа ради» (C. 150), не спасут его душу. Еремей видит только один выход:
- - А знаешь, что бы я сделал? <…> кабы в силе был да место такое знал? <…> Я бы пришел на весь народ, да и сказал… Вот только места нет такого, чтобы весь народ мое слово услышал… <…> вся Россия, весь народ православный, все до последнего человека! <…> я бы им и сказал: братцы! Милые! Давай о душе думать. Давай друг за друга постоим. Я бы им свой перевоз и барку, лошадей и все свое выложил и сказал: получи! И крест бы с себя снял: получи!.. (C. 152).
Позиция нарратора, не только в этом рассказе, но и во всех остальных, не совпадает с наивными «мечтами» Еремея. Она сводится к идее выполнения своего долга, заключающегося не только в объективном изображении положения переселенцев, к чему стремились очеркисты 1880-1890-х гг., и столичные, и сибирские; ему важно художественное воплощение проблемы, которое бы переживалось эстетически, воздействуя на личность широкого круга читателей, формируя ее.
Каждый рассказ цикла в отдельности получает благодаря точке зрения повествователя или его диалогу с позицией рассказчика определенное эстетическое завершение. Истории Устиныча (героя «Самоходов»), Митрича («Елка Митрича»), Семки («Домой»), Николки («Нужда»), Еремея («Хлеб-соль»), Тимофея и его сына Григория («Лишний рот») звучат серьезно, драматично и даже трагично, но взятые отдельно, они передают лишь единичный случай. Автор, собирая эти рассказы в цикл под названием «Переселенцы», заставляя сопоставлять изображенные события, описанных героев, показывает их параллелизм, переклички, повторяемость, тем самым передавая общее состояние России 1880-1900-х гг., хаотично движущейся в поисках выхода из кризиса, который не был преодолен ни реформой 1861 г., ни выстрелом Д. Каракозова в 1866 г., ни массовым переселением из центра страны на ее восточную периферию и т.п.
Двойственность ракурсов видения переселенческой темы в цикле рассказов Телешова представляется очень важной. В изображенных событиях явно усматривается некая связь, указывающая и на их конкретность, т.е. единичность, и на их будничность, т.е. типичность для определенного времени и среды, и на их всеобщность, т.е. на некий универсальный закон объективно трагичного устройства бытия, который был в полном объеме репрезентирован в русской литературе конца XIX в., прощающейся с эпохой классики, А.П. Чеховым, одним из первых отошедшим от построения художественного текста на открытом конфликте человека и социально-исторических обстоятельств.
Система рассказчиков и жанровое своеобразие рассказов цикла (рассказ «Самоходы»)
Жанровую специфику рассказов Телешова о переселенцах определяют новеллистическое и притчевое начала. Все герои и сюжеты рассказов принадлежат конкретной эпохе со всеми ее больными вопросами, и вместе с тем они являются воплощением общечеловеческих законов. Так, главный герой рассказа «Самоходы» переселенец Устиныч, умирающий на пути к новым местам, к «земле обетованной», которая, по его словам, находится «далече», «на версты считать, не знаю, как и выговорить», является одновременно и действующим лицом новеллистического сюжета, непредсказуемость развития которого изначально задается образом повозки и мотивом дороги, которые стали почти обязательными при создании образа переселенца; и притчевым персонажем, переживающим общую и вечную ситуацию поисков идеального мира, ради достижения которого не жалеют даже жизни. Сквозь явную социально-историческую конкретность сюжета и героев отчетливо проступает их символическая семантика.
В пути герой меняется и внешне (в рогожке, накинутой от дождя на плечи, он «сделался похожим на попа в ризе» (C. 107), и внутренне. С каждым днем жизненные силы уходили из него, и грусть все больнее «щемила его старое сердце» (C. 109). «Знать, надорвался!», – говорит он сам о себе, как о коренном в упряжке. Однако именно сейчас к герою, почти уже растворившемуся в общем потоке жизни, приходит жалость к себе:
- И ему вдруг стало жалко себя. Потому стало жалко, что прожил он семьдесят лет на свете, сгорбился. Поседел, изломался, а ничего, кроме горя, кроме нужды и лишений, не видал от жизни. Даже теперь, на старости лет, когда и без работы уже стонут и ноют его надломленные, простуженные члены, он все еще гнется, все еще ломает спину под нуждою, под невольным ярмом. Идет он тысячу верст, голодает, мокнет под дождем, валяется, как последняя собака, на грязной земле и терпит и сносит все – ради того, чтобы прийти да умереть вдалеке от родины» (C.109).
И хочется Устинычу в последние часы жизни не поскорее дойти до неведомой «земли обетованной», куда направлялась их «тройка», а «подняться сейчас же и бежать без оглядки назад, где нет уже ни зерна его, ни клочка земли, – а там пускай оставляет душа его грешное тело, пускай относят его в эту знакомую белую церковь и проводят на знакомый погост, на облюбованное местечко, по соседству с добрыми людьми – земляками» (C. 109).
В финале рассказа притчевое и новеллистическое начала стремительно и не раз сменяют друг друга. Притчевое слово почти сразу переводит трагическую сцену умирания старика у придорожного куста, ночью, в бреду жалующегося на то, что ему не дают «способия» и прогоняющего кого-то, кто занял его место, в архетипическую ситуацию. Этот переход обозначается описанием внутреннего состояния Сашутки, внука Устиныча, который, слушая бред деда, думал (точнее, ему «подсказывало» это его тоскующее сердце), что «дедушка отгоняет от себя смерть… Об этом же думали и другие» (C. 111).
Эта картина завершается размышлением нарратора: «Освободилась его душа, изнывавшая семьдесят лет в его теле, ради которого он столько грешил, столько терпел нужды и горя, завидовал, унижался, боялся, и все это – прах и ничто. <…> А Устиныч … когда-нибудь выглянет опять на здешний свет зеленой травинкой и будет опять красоваться на солнышке» (с. 111). Сцена похорон Устиныча заканчивается следующей деталью: Сашутка «втыкает» в «бугорок из рыхлой земли», где похоронили деда, «молодое деревце с корнем и зеленью» (C. 111), и они уже вдвоем с отцом впрягаются в тележку, чтобы ехать дальше. Но уже двинувшись в путь, Сашутка и Трифон сбрасывают с себя пристяжку, встают на колени, кланяются в сторону могилы Устиныча. Мальчик плачет, желая услышать «ласковый знакомый голос деда «С Богом, Сашутка! С Богом». «И некому уже так крикнуть, некому было утешить и ободрить его, и осиротевшей душе Сашутке не на что было откликнуться», – звучит голос повествователя, подчеркивающий трагизм утраты человека (C. 112).
Взаимопроникновение новеллистического и притчевого начал может быть продемонстрировано и на других рассказах, что подводит нас к выводу о жанровой стратегии, выдержанной в цикле «Переселенцы» в целом и являющейся еще одной из его скреп, придающих циклу дополнительные сверхсмыслы. Ее специфика позволила Н.Д. Телешову синтезировать острую злободневность темы переселения в Сибирь, что было столь характерно для документально-очеркового дискурса о переселенцах, и ее универсальный, общечеловеческий потенциал.
Мотив блудного сына (рассказ «Домой»)
Сквозной мотив блудного сына, как и мотив земли обетованной, поддерживает целостность и единство цикла, во всех рассказах которого изображены герои, покинувшие родные места и либо мечтающие о возвращении в родной дом, либо реально движущиеся назад – из Сибири в центральную Россию. Один из рассказов так и называется – «Домой». Его зачин описывает главного героя – «вихрастого бледнолицего мальчика лет одиннадцати» по имени Семка. Родители его, переселенцы, умерли в дороге от тифа, «и он остался одиноким среди чужих людей и среди чужой природы, вдалеке от родины, которую он помнил» (C. 122). Эта память о родном доме, желание вернуться туда и становятся основным двигателем всех поступков Семки, основой сюжетного развития произведения и его восприятия читателем.
На первый взгляд, библейская притча в рассказе значительно трансформирована: отчий дом в нем оказывается синонимом родины, в родное село устремляется сын, оставшийся сиротой. Но главный нерв притчи – проблема выбора – в рассказе играет ведущую роль. Родной дом когда-то отпустил обоих героев рассказа, причем старший из них, отец Семки, сделал свой выбор сознательно, чего нельзя сказать о младшем, Семке, которого родители взяли с собой, разумеется, не учитывая его желаний. Теперь мальчик принимает самостоятельное решение о возвращении на родину, в чем и заключается ценность его поступка.
Поначалу ребенок, конечно, не понимает, что его дорога домой обернется множеством тягот и испытаний. Можно сказать, что он даже не осознавал, зачем ему нужно вернуться к речке Узюпке, в село Белое, почему он бежит из переселенческого барака. Семка выбегает из барака на дорогу вполне счастливым от того, что возвращается домой: «И опять он увидит … Малашку, Васятку и Митьку, своих закадычных приятелей, пойдет к учительнице Афросинье Егоровне, пойдет к поповым мальчикам, у которых растет много вишен и яблок…» (C. 123).
Этот путь домой, эта мечта о лучшем на свете селе Белом и лучшей на свете речке Узюпке сформировали в мальчике то качество, которое Пушкин очень точно назвал «самостоянье». В структурном же плане он воспроизводит ритуально-мифологический подтекст притчи о блудном сыне, корнями уходящий в обряд инициации. Герой отправляется в путь один, даже не пытаясь найти себе в бараке попутчика, а идет он для того, чтобы вернуться в общество односельчан уже в новом качестве, повзрослевшим, самостоятельным, научившимся преодолевать трудности, делать правильный нравственный выбор и т.п. В рассказе отражены такие важные этапы инициации, как отправление на чужбину, жизнь в далекой стороне, где было оставлено все (включая родителей) – Семка отправляется в дорогу домой налегке, не имея никаких припасов, теплой одежды, денег. По дороге мальчику встречались и добрые люди («помощники»), кормившие его «ради Христа», подвозившие его бесплатно на лошади, и непреодолимые препятствия. Таким, например, стала для него широкая река. Встретил мальчик на своем пути и попутчика, беглого каторжника (еще один «чудесный помощник»), который так же, как и он, шел домой, в «Расею». Сюжет рассказа реализует и последнюю фазу притчевого архесюжета (тяжелая болезнь Семки, беспамятство, равные временной смерти, и выздоровление, новая жизнь).
Мотивный комплекс и макросюжет цикла
Если рассказ «Самоходы» фиксирует отрыв героя от привычной жизни во имя обретения «земли обетованной», то сюжет рассказа «Елка Митрича» организуется мотивом искушения. Действие начинается в кухне переселенческого барака, где накануне рождества жена Митрича хлопочет, готовясь к празднику. И Митричу хочется, чтобы удовольствие получили и сироты, живущие в их бараке: «срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать!» (C. 114). Изначально замысел героя устроить праздник детям связан с искушением, с разыгравшейся в нем гордыней («Митрича всю жизнь не забудут!» (C. 115). Далее искушению подвергается церковный сторож, у которого Митрич выпрашивает церковные огарки, чтобы украсить ими ёлку. Искушению подвергаются и дети, которые стали помогать Митричу наряжать елку свечами, не догоревшими у икон. Затем рядом с церковными свечами на елку они стали привешивать конфеты, кружочки колбасы, ломтики хлеба и, наконец, бутылку с вином. Однако заканчивается рассказ внутренним перерождением героя: он умиляется до слез, когда смотрит на впервые в жизни радующихся детей и получает удовольствие, ощущение праздника, какого никогда не было в его жизни, от того, что все радуются.
Рассказ «Домой» отсылает читателя к фазе блужданий, испытаний, включая болезнь, равную в притчевом сюжете временной смерти. Следующий рассказ «Нужда» играет роль вступления в последний этап макросюжета цикла – воскрешения. Его главным героем тоже является сирота, Николка, брошенный родителями-переселенцами по дороге на новые места потому, что мальчик заболел и из-за него могли не пустить на пароход всю семью. Однако в финале рассказа читатель видит выжившего несмотря ни на что Николку, который живет в доме сторожа вместе с другими осиротевшими или, как и он, брошенными родителями-переселенцами детьми. Мальчик исхудал и побледнел после болезни и не помнит, чей он, откуда. Начиная новую жизнь, он отвечает на вопрос о том, как зовут его отца: «Тятька … – А мать как зовут? – Мамка». «И больше ничего нельзя было от него узнать», – завершает свой рассказ повествователь, подчеркивая мотив воскрешения, возрождения Николки, начинающего свою жизнь с чистого листа. Рассказ «Хлеб-соль» являет собой своего рода сюжетную паузу перед его завершающей фазой. Здесь происходит отступление в сторону от основного сюжета цикла, и оно посвящено взгляду на переселенцев как бы со стороны, глазами коренного сибиряка, зарабатывающего себе на жизнь перевозом переселенцев с одного берега реки на другой.
Последний рассказ цикла – «Лишний рот», словно оформляя макросюжет «Переселенцев» в кольцевую композицию, возвращает его в «исходную позицию». Здесь, как и в «Самоходах», изображается еще одна семья, двинувшаяся из родных мест в Сибирь. Рассказ почти зеркально повторяет сюжет «Самоходов» и тоже заканчивается смертью главы семьи переселенцев, Тимофея Ильича. Он тоже уходит из жизни в недостойных человека условиях: в переселенческом лагере, лежа «на каком-то тряпье, <…> накрытый до горла … чем-то неряшливым, вроде старого войлока» (C. 164), осознавая полную опустошенность и испытывая стыд за то, что стал обузой семье, «лишним ртом». Его, как и Устиныча, героя «Самоходов», окружают жена, дети и внуки, которые, похоронив Тимофея, пойдут дальше, в «неведомые края», где «маячили новые счастливые места, обвеянные мечтами и надеждами. Там – от Урала до океана – развертывалась необъятная Сибирь, сказочная страна <…>» (C. 166).
Следует обратить внимание и на такую особенность организации цикла, как скрепы, соединяющие отдельные части его макросюжета. Ими являются мотив дороги и образ переселенческого барака (или лагеря). Так, действие «Самоходов», начавшись у барака, заканчивается сообщением о том, что герои, похоронив Устиныча на неизвестном им сельском погосте, продолжили путь на новые места. «Елка Митрича» возвращает читателей в переселенческий барак. В следующем рассказе «Домой» из такого барака убегает Семка, и весь сюжет произведения строится на мотиве дороги, плавно перетекающем в рассказ «Нужда», действие которого вновь заканчивается в бараке. Заданный ритм развития макросюжета поддерживается вновь возникающим в рассказе «Хлеб-соль» мотивом дороги, который связывает два последних рассказа. И наконец, первая и последняя история цикла почти зеркально повторяют друг друга на уровне сюжета, позволяя замкнуть композицию цикла в круг, символ вечного движения, не имеющего ни начала, ни конца.
Притчевый подтекст «Переселенцев», организуемый его ориентацией на легенды о земле обетованной, о блудном сыне, формирует и единый мотивный комплекс цикла, обогащающий цикл мифопоэтикой. Самыми востребованными, переходящими из одного рассказа в другой, становятся мотив дома, еды, земли, болезни, смерти, воспоминания-возврата, гнева, леса, реки, неба, ночи, огня, слез, плача, страдания, мученичества.
Система героев
В каждом рассказе существует своя система героев, главных и второстепенных. Но взятые вместе, они обнаруживают фундамент всего цикла в целом, позволяют автору выйти к целостному взгляду и на проблему переселения в Сибирь, и на универсальные вопросы о человеке и мире. Стремясь к индивидуализации своих образов переселенцев – на уровне внешнего вида, поведения, речи, характера, Телешов обращает особое внимание на их социально-историческую мотивировку, соединяя ее с общечеловеческой. В конечном итоге в цикле создается яркий тип человека-переселенца, точнее, несколько его вариантов, из которых дети-переселенцы и старики-переселенцы интересуют писателя в первую очередь. Кроме того, героев цикла можно поделить на две группы по их мироотношению. Отправляясь к земле обетованной (или возвращаясь назад – в любом случае для них это движение к счастью), одни из них гибнут, другие неустанно идут к цели. Погибают чаще всего старики и дети, но не потому, что им уже или еще не хватает сил прокладывать свой новый жизненный путь. Ценой смерти они сохраняют свои души, лучшие чувства и порывы своих сердец. Герои зрелого возраста продолжают двигаться к своей цели, бросая на этом пути больных детей, не замечая страданий тех, кто слабее их, торопя умирать стариков, наскоро хороня их у дороги в безымянных могилах. Особенно показательны образы женщин, которые, не проронив слезы, смотрят на умирающих, забывают о своих детях и тем более не замечают страданий чужих детей. Бедой и виной этой группы героев является отсутствие внутренней свободы, о которой они чаще всего и не думают, охотно рассуждая о цепях внешних обстоятельств и позволяя им разрушать свои души.
В этом отношении особенно показателен последний рассказ цикла «Лишний рот». Его главный герой – молодой крестьянин Григорий, возглавляющий семью переселенцев. Уже сцена, знакомящая с ним читателей, показательна. Григорий встречает на улице сибирского города своего друга детства (от его имени ведется повествование):
- Передо мной стоял молодой крестьянин, неуверенно улыбаясь и вертя в руках картуз. Глаза его тоже неуверенно глядели то на меня, то в землю, то в сторону; улыбка была несмелая, жалкая и нерадостная.
- - Григорий я… - проговорил он, видя, что я не узнаю его. – Григорий… Тимофеев сын… Ершов. <…> Не оставьте, сделайте милость. Помогите в беде. <…> Мы все здесь. Всем семейством… Переселяемся.
- - А Тимофей?
- - Тут же. Помирать вздумал старик, да что-то не помирает.
- - Это ты про отца? – переспросил я не без укора.
- Григорий спокойно ответил, не поняв моего упрека:
- - Про отца.
- - Да где он? В больнице, что ли?
- - Где там – в больнице!.. В поле стоим. Валяется, как собака. И все мы там, как собаки (C. 159).
Провожая героя-повествователя к отцу, Григорий всю дорогу ругает ссыльных арестантов, завидует им, потому что за ними («счастливцами», «душегубами») регулярно приходила баржа, а в ожидании ее они, по его словам, жили «в тепле, сыты, одеты, а мы – как собаки!». Позиция повествователя высвечивается подробным описанием «серой колыхающейся массы» арестантов, которых конвойные гонят в кандалах, босыми, а те, в отличие от Григория, не умеющего оценить свою свободу, обозленного на всех и все, шутят и смеются. Глава III этого рассказа представляет собой массовую сцену. В ней описывается переселенческий лагерь, в котором находится тысяч двадцать народу. Все они обозлены, обижены на начальство, друг на друга, на Сибирь, все готовы унижаться перед первым встречным. Это – толпа, «ревущая, голосящая», угрожающая, жалующаяся, кланяющаяся и просящая «поговорить» с кем-то и «понудить» кого-то.
Встреча с Тимофеем произвела на повествователя самое гнетущее впечатление и тем, в каком состоянии он застал старика, и его желанием умереть поскорее, чтобы не быть «лишним ртом» для семьи, но главное – тем, как равнодушно смотрел и слушал на умирающего отца Григорий, а вместе с ним и его жена и дети, чья реакция ничем не отличалась от реакции слабоумного младшего брата Григория, Афоньки.
По сути, цикл Телешова представляет оппозицию двух основных жизненных оснований – нравственности и безнравственности, за которой проступает главная идея авторской концепции личности – идея свободного нравственного выбора, который остается за человеком при любых обстоятельствах. В случае удачи и правильности этот выбор может приблизить героя к счастью (таков выбор Семки из рассказа «Домой»), но даже в случае неправильного выбора, заблуждения, как происходит с Митричем из рассказа «Ёлка Митрича» или Еремеем из рассказа «Хлеб-соль», герой вызовет улыбку в свой адрес, а в конечном итоге – обретение истины.
Таким образом, одним из существенных моментов является наличие в цикле макросюжета, который развивается в опоре на новеллистическую и притчевую традицию, что позволяет автору отойти от документально-очеркового нарратива, в рамках которого преимущественно осмыслялась тема переселения в Сибирь и столичными, и сибирскими писателями, в сторону собственно художественного повествования, связывающего конкретное и всеобщее, сиюминутное, злободневное и вечное, обстоятельства и личную мораль и психологию в онтологически глубокую картину мира. В этом цикле рождается многоголосое слово, произносимое последовательно или параллельно нарратором, героями-повествователями, рассказчиками, которое делает картину мира объемной, живой, целостной. Столь своеобразное художественное воплощение одной из самых острых тем русской общественной жизни второй половины XIX в. – освоения Сибири переселенцами – органично вписывается в общее русло эволюции отечественной литературы названного периода, свидетельствуя о мощном культурном потенциале этой темы.
И.А. Айзикова
Литература
- Телешов Н.Д. Избр. Соч.: в 3 т. Т. 2. М., 1956. Далее страницы указаны в круглых скобках.